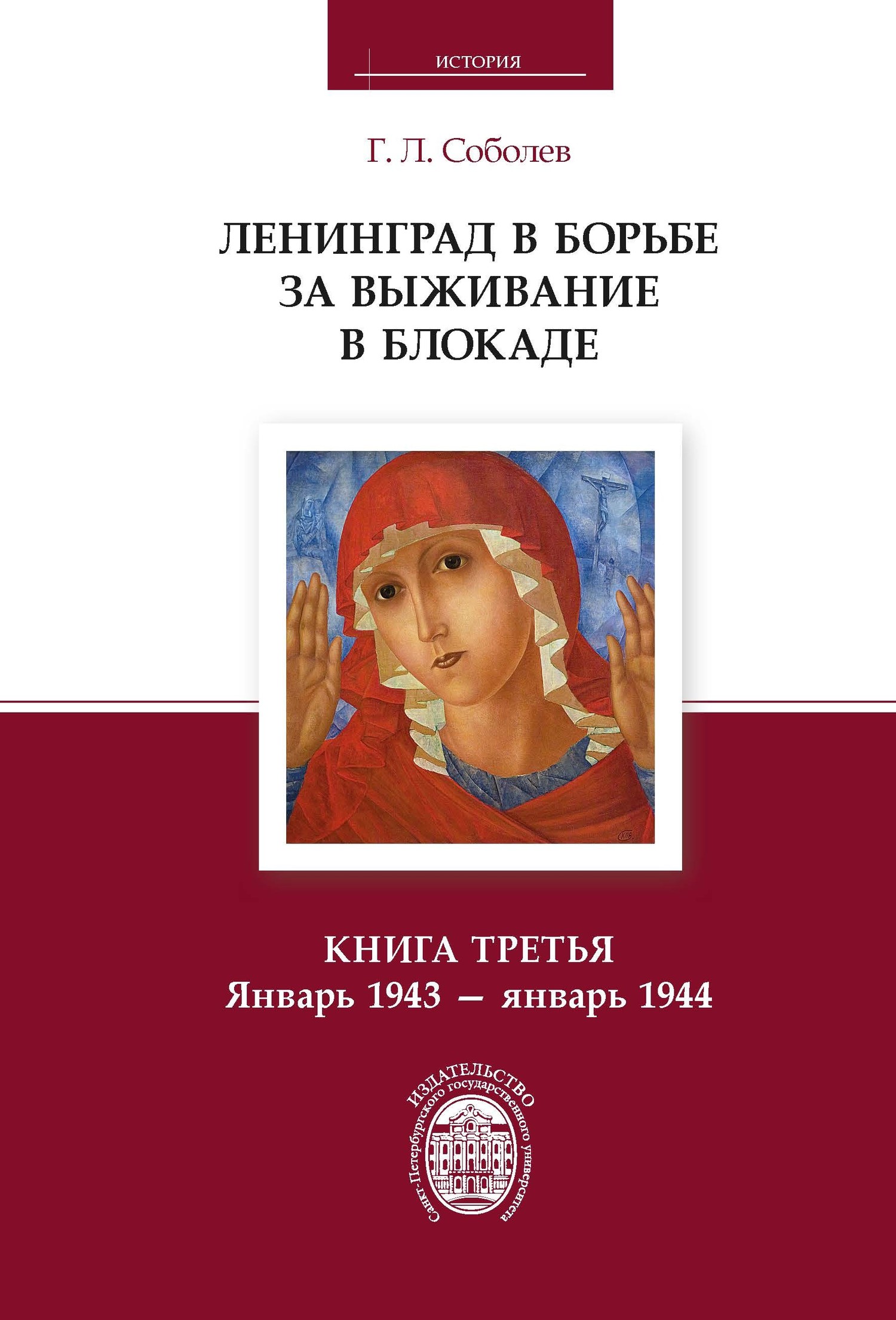Теперь обернётся одной из сестриц.
Но останется жить льняное заклятье
От девушки в траурном платье.
ОТ БОГА
Я видел, как утром ты пела,
Спрятав меч под разбухшим плющом,
Как ты долго на воду смотрела,
Укрываясь зелёным плащом.
— О чём пела?
— Только о людях.
— Значит, вовсе и не о чём.
Слушай, девушка, да забудь их!
В твоей песне они ни при чём.
Слышишь топот вне глаз твоих?
Деревянная дорога чудна.
Кто прервал тишину? Человек!
И лишь сердце сгорает дотла.
Говорит: «Ты в богов не верь,
Нам и Мидгарде хорошо…»
И осёкся, подняв взгляд вверх.
Рассмеявшись, опять зашёл:
«Всегда можно хуже. Молчи.»
(ты молчала с первого шага.)
Его окинули взглядом грачи:
«Ты бессмертен? Какая отвага…»
(Меч лежал у тебя в ногах.)
Птица села на звон колец.
На потёртых твоих сапогах
Спал навечно упавший венец.
Ох, как я тебя жалею,
Ведь хотел бы я дать века,
Но ты к людям идёшь, старея,
А обернёшься — увидишь рога.
— О чём пела?
— О людях и море.
— Продолжай. Уже лучше. Признаюсь:
Люди — скука, бездушность и горе,
Но ты — не их них. Я знаю.
Ты не помнишь, зачем им веришь.
А я помню — ты любишь их.
Ты сапожками берег меришь
И ценность вещей любых.
— О чём пела?
— Не помню, правда.
— Это слёзы?
— Да уж поверь!
— Твои «люди» — большое стадо
Ломающих в душу дверь.
У них наглость, хоть нет ключа.
Не следуй ты общей стае.
Стой! Зачем тебе блеск меча?
Не убить из, предупреждаю!
Ох, как я тебя жалею,
Ты осталась с людьми и впредь.
Ты и веру забудешь, старея,
Обернёшься — увидишь смерть.
ШОРОХ ЛЕТ
«Одним из самых важных людей для меня был отец. С ним я провела гораздо больше времени, чем со всей родней, но так и не смогла понять, что он хотел сказать мне фехтованием и стрельбой. Он никогда не говорил глупостей или грубостей, ему было не до этого. Выполнение отцовского долга являлось его философией жизни. А долг этот заключался в том, чтобы я сейчас вспоминала его с той же любовью и теплотой, с какой он вспоминал бы меня.
Всё далеко не всегда получается с первого раза. Папу, в отличие от многих моих знакомых, невозможно было вывести этим из себя. Он лишь говорил: «Придёт время». У меня до сих пор мурашки от этих двух слов. Банальная фраза, пробуждающая во мне последние силы и желание идти дальше. Первый раз это было осенью. Я искала последний в году одуванчик. Когда неудача безумно меня расстроила, пришёл отец и произнёс всего два слова… Не понимая, как скоро я смогу увидеть цветы, я села на сухую траву прямо там, где впервые была произнесена эта «осенняя» фраза, и обещала ждать солнце. И правда, на следующий год я нашла последние цветы именно там. Нам с отцом обоим понравился этот опыт. Ему особенно.
Но саму осень он никогда не любил. Говорил, что в этот сезон волки становятся злее и любопытнее. Ему не было страшно ни за себя, ни за нас с мамой и братом. Его никак не бросала одна мысль: «Увидишь волка — не смотри ему в глаза. Они — как кривое зеркало. В них отражается душа. А увидеть свою душу глазами — значит убить её».
Благодаря папе я сейчас могу за себя постоять. Меч всегда при мне. На папе держится многое в моей жизни. С восьми лет он начал водить меня в лес и учить стрелять. Лес был похож на нашу библиотеку. Пройдёт время, и все они будут лежать на земле, как книги на столе. Как прочитанные книги, от которых будет веять жаром лета и запахом бумаги, и маминым венком из сухих, но всё ещё живых одуванчиков…
Мама… От неё всегда вкусно пахло одуванчиками и домашним уютом. Она редко отлучалась из дома надолго, никогда не отходила далеко от семьи. Мама — самая верная и преданная из всей нашей семьи. В ней не было ни капли жесткости, что меня даже удивляло. А её ласковый голос… От одного её слова хотелось зарыться в одеяло рядом с ней и крепко уснуть. Услышав её шёпот, бесконтрольно отвечаешь «Конечно». И жалко было бы ослушаться. Мама не ругала. Она считала это неверным методом воспитания.
За любовь к водяным лилиям мы с Либверием называли её Кувшинкой. Кувшинка на самом деле любила и уважала волков, они были для неё почти священными. В моём детстве она пела нам колыбельные, играя на арфе, чему и меня научила. Именно мама пристрастила меня к струнной музыке.
Выманить брата из комнаты всегда легко удавалось маме. Мне — с большим трудом, папу Либверий не слушал.
Наша мама часто готовила. Вечный запах мяты и мёда на кухне иногда надоедал папе с братом, но они ей этого так и не сказали. А я все прожитые нами выходные простояла с Кувшинкой у плиты, и лишь благодаря её стряпне могу без всяких затруднений приготовить себе обед.
Каждое воскресенье я собирала лаванду и приносила её маме через неделю уже сухой, собирая новый букет, и так раз за разом… Она ничего не говорила, лишь мягко улыбалась и ставила её в узкую, но высокую стеклянную вазу (тоже подаренную мной). Я любила её улыбку…
Сколько себя помню, каждое бабье