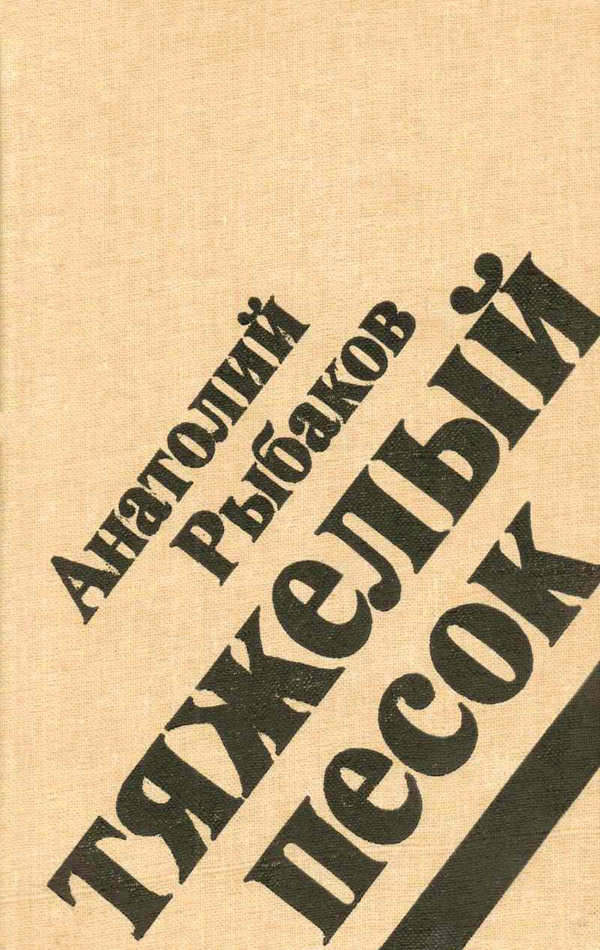тратило свои деньги, клевета австро-еврейских журналистов все больше становится похожей на собачий лай». Он рассердился, но, как позднее признался некоторым коллегам, не потому что был венгерским евреем (на самом деле это было именно так), а потому что почувствовал себя оскорбленным как журналист. А вот это было сильным преувеличением, поскольку он был обыкновенным дешевым писакой. В пивной «Таверна» за кружечкой темного пива он прибавил: «Я им отомщу!» — и пьяная публика подхватила его слова, как припев, и воскликнула: «Им отомстят!»
И мог ли подумать обычный столичный щелкопер, до вчерашнего дня писавший о пожарах в Буде или о ночных горшках, содержимое которых некоторые обыватели все еще выливали из окон на головы прохожим, мог ли он подумать, что припев этой воинственной кабацкой пьяни ко многому его обязывает? Но к чему? Несколько дней спустя он получил новое задание, больше похожее на журналистское провидение. Всем молодым сотрудникам «Пештер Ллойд», у которых не было постоянной рубрики, — к их числу относился и молодой Вереш — вменили в обязанность ежедневно писать письма с угрозами и посылать их на адрес сербского двора.
Напрасная работа, но не для того, кто до вчерашнего дня писал заметки об эпидемии кори в цыганском гетто на острове Маргит. Для выполнения нового задания были необходимы лояльность, патриотизм и — прежде всего — стиль письма, приспособленный для создания пасквилей. И Вереш принялся за дело. Лояльным он был. Решительным — сверх всякой меры. В своем патриотизме венгр иудейского вероисповедания не сомневался. Что касается стиля, то он был готов показать, на что способен. Первое письмо, отправленное в адрес регента-престолонаследника Сербии Александра, получилось прекрасным.
Тибору даже показалось, что он не пишет, а лично орет в адрес этого дерзкого принца, разжигающего пожар в старой цивилизованной Европе, нечто вроде «Из вас получится свинья, не способная даже валяться в собственном загоне, и хряк, наполнивший своей вонью весь свинарник».
Когда сербская пресса, которую он по-прежнему изучал, сообщила, что в адрес сербского двора ежедневно поступают сотни писем с бессмысленными угрозами из Пешта и Вены на венгерском и немецком языках, наполненные самыми гнусными оскорблениями в отношении престолонаследника и старого короля Петра, Вереш воспринял это как импульс к тому, чтобы продолжать начатое еще решительнее (да и редактор, прочитав один из пасквилей, сказал: «Из вас получится достойный столичный журналист»). Но, как и в случае с патологоанатомом Грахо, с журналистом произошло нечто необычное, хотя и не связанное с мрачными пророчествами, как это было в сараевском морге. Тибору просто-напросто перестали подчиняться слова. Как это произошло, он и сам не смог бы объяснить.
Он начал новое письмо с крайне обидного обращения. Придумал совершенно безобразную оценку сербского короля и Сербии, развил эту мысль как хороший журналист, нашел позорные примеры в истории и в конце приправил все это ничем не прикрытыми угрозами. Перед тем как показать письмо редактору, он решил — к счастью — перечитать его еще раз, и был очень удивлен. Написанные им слова как будто затеяли с ним игру на белой бумаге. Это было самое настоящее грамматическое королевство без короля. Существительные отнимали друг у друга значение, от них не отставали глаголы; прилагательные и наречия стали настоящими бандитами и контрабандистами, пиратами, работорговцами. Только числительные и предлоги в некоторой степени остались в стороне от этой наглой игры. Однако результат был таков, что все написанное Тибором в конце концов оказалось похожим скорее на похвалу сербскому престолонаследнику, чем на его оскорбление.
Сначала он попытался переписать текст, но понял, что глупейшим образом переписывает самый настоящий панегирик Сербии, имея в виду нечто совершенно противоположное. Поэтому он поменял язык. С венгерского перешел на немецкий. Вытаскивал из памяти тяжеловатые немецкие слова, будто обросшие отростками и странными опухолями, слепые и глухие ко всякой морали и тени самостоятельного сознания. С помощью этих словесных обломков, собранных на улицах, и жаргонных ругательств мелкий хроникер из Будапешта сочинил новое письмо, и оно снова показалось ему прекрасным, если так можно сказать о пасквиле; но как только он закончил, текст прямо на глазах стал менять смысл и приобретать белградские манеры. Слово Gering (неважный) без труда превращалось в gerecht (справедливый); он хотел написать «Das wahr ein dummes Ding» (это было глупостью), а получилось так, что он собственной рукой написал «Jedes Ding hat zwei Seiten» (все имеет свою оборотную сторону). Как будто он хотел объясниться с этим дерзким принцем, а не оскорбить его. Так все и продолжалось. Слова, от которых разило грязью и нечистотами, обретали чистоту и благородный запах. Ругательства легко превращались в укоризну, а укоризна становилась похвалой…
Он подумал, что возможная причина этих метаморфоз — в слишком тонкой дешевой бумаге, и потребовал от редактора бумагу потолще. Поменял и пишущую ручку, а синие чернила заменил на черные, и тогда наконец его мучения закончились. Уродливые письма оставались такими, как он их и задумал, и были подобны полю, побитому градом величиной с куриное яйцо. Они понравились и редактору, а Тибор решил, что тайна заключена в толстой бумаге, ручке и черных чернилах. Ему захотелось расцеловать свою дешевую ручку, с помощью которой он в 1914 году написал множество наглых писем в адрес сербского двора, но он не знал, что происходит на почте…
Подлые письма наконец поняли, что им не стоит меняться на глазах у своего опухшего невыспавшегося автора, и поэтому решили искажать свой смысл в почтовом отделении или в вагоне скорого почтового поезда Австро-Венгрии, развозившего письма по всей Европе, в том числе и в Сербию. Таким образом, незадолго до мобилизации журналист продолжил свое дело, а при сербском дворе удивились тому, что среди сотен пасквилей находятся и одобрительные письма из Пешта, и ошибочно сочли это знаком еще сохранившегося в Австро-Венгрии здравого рассудка.
А сербская пресса продолжала гудеть и тоже умела оскорблять и не умела взвешивать слова, вот только ни в одной газете слова не подменяли друг друга и ни один оттиск с измененным смыслом фраз не вышел из типографии. Тибор продолжал писать черными чернилами на толстой бумаге и изучать сербские газеты. Правда, он просматривал только первые страницы, не придавая значения объявлениям, а между тем именно они стали причиной того, что в Белграде, как писала «Политика», произошел интересный «случай». Собственно говоря, все началось с непрочитанного Тибором объявления. Для Джоки Вельковича, мелкого торговца гуталином, Великая война началась тогда, когда он дал в «Политике» объявление в рамочке, в котором говорилось: «Покупайте немецкий гуталин „Идеалин“! Настоящий