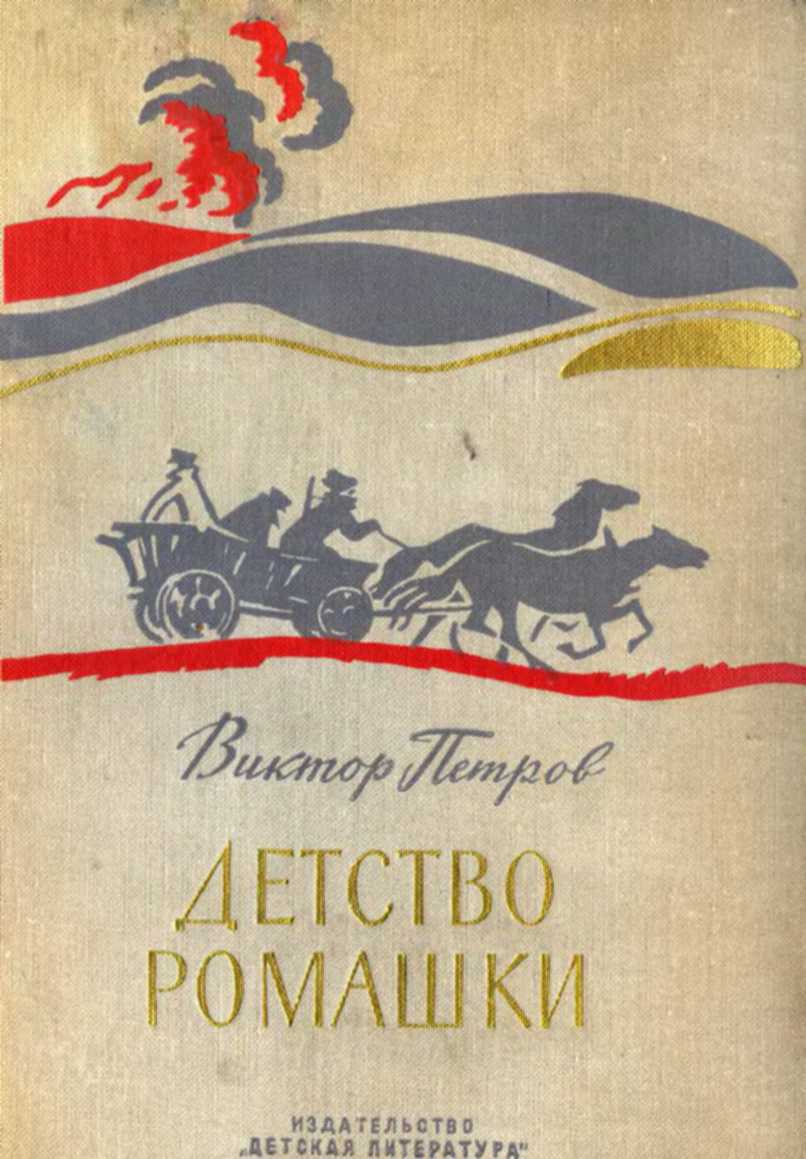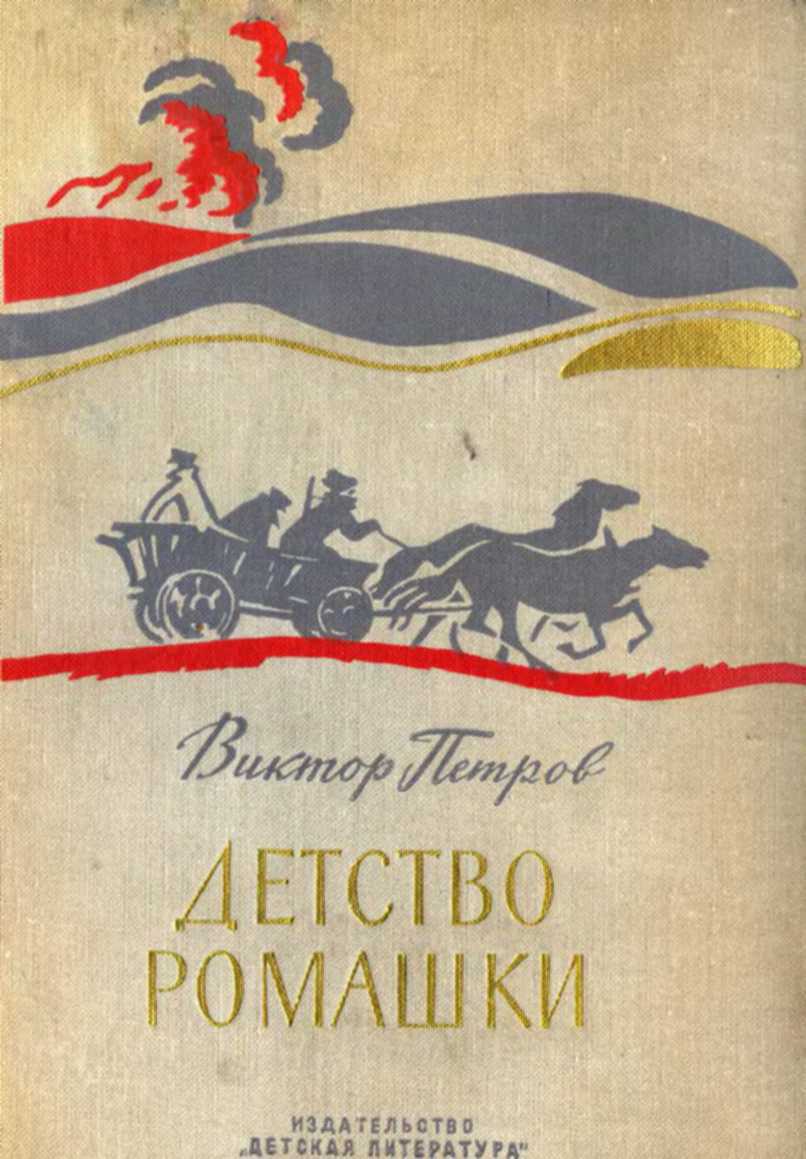кралась, прижимаясь к заплотам. В деревне не поймешь, что творится. Где вой стоит, где песни горланят. Добралась до задов Арининого двора, прошмыгнула между грядками и, только собиралась свободно вздохнуть, услышала голоса.
«Никак у крестной кто-то есть? – отпрянула от крыльца, прислушалась. – Мужики… Вроде выпимши. В сени вышли, никак? Выходят во двор…»
Испугалась, опрометью бросилась прочь и притаилась за поленницей.
На крылечко вышла Арина. В белесом сумраке июньской ночи ее еле видно. А рядом с нею солдат, широкоплечий и басовитый.
– Ты, Аринушка, покажи мне хозяйство свое, стайку, бекешку, сеновал.
– Ой што ты! Сдурел, так шшипаться.- А потом примирительно: – Зачем тебе мое хозяйство смотреть?
– Как зачем? Я ж холостой, а ты мне шибко приглядна. И бела-то, и румяна, и черноброва. А ежели еще и хозяйство справно… Коровенка-то сколь доит?
– Без мала ведро. Убери-ка руки! До амбарушки вы все холостые да добрые, а посля амбарушки смотришь, и жена появилась, и сарынь по лавкам, и смуглянкой я стала, и румянец не тот.
– Холостой я, вот те хрест, холостой. Заживем мы с тобой, Аринушка. Я работящий, непьющий. Войну закончим, пахать с тобой станем, в тайге промышлять. До баб и девок я совестлив. А ты меня забрала…
– Да ты руками не шибко шарь, раньше женись, – и хихикала, шлепая солдата по смелым рукам.
Где-то в болотах, за Выдрихой, гулко ахнула выпь, словно предупреждая Ксюшу: «Бойся, бойся».
«И так боюсь больше некуда, да Веру спасать надо. И откуда взялись эти бандиты с винтовками? Кто им дал право над людями изголяться? Где теперь наша Советская власть?»
Возмущение становилось сильнее страха. Ощущение несправедливости жизни возникало и раньше, но только после личной обиды. Сегодня Ксюшу никто и пальцем не тронул, а чувство обиды было особенно сильно, несправедливость особенно наглядна. «Все люди одинаковы перед богом, так пошто один бьет другого? Не солдаты дали Кирюхе жизнь, почему ж они ее у него отняли? Все люди одинаковы? А Сысой? А офицер, што командовал: «На скамейку!…» – захлебнулась от злобы. – Выходит, не все одинаковы люди?»
Неожиданное открытие на миг отвлекла Ксюшины мысли. Затем вспыхнула досада на Арину и солдата.
«Когда же они угомонятся? Кусок хлеба можно попросить Христа ради, но надо и соль, и спички, и нож, и какое ни на есть рядно или шаль. Ежели у Арины солдаты загуляют на всю ночь, то придется украсть! Ой, мамоньки, што я удумала!…»
В таежном краю можно убить человека. Если по пьянке, так скажут; «Дураку надо было не медовуху пить, а настой на коровьем дерьме». Если убьют по злобе, так мужики убийцу осудят: «Вот, окаянный, дай, боже, не встретиться с ним». Тем дело и кончится.
За кражу в Рогачево учат иначе. Украла баба мочку кудели, веретено – это бабье дело. Генералов судят лишь генералы, и баб по бабьим делам судят и учат лишь бабы. А бабий суд краток. Завизжат, заругаются так, что мужики восхищенно закрякают, вцепятся воровке в волосы и рвут, царапают что попало, чтоб всю свою жизнь помнила этот день. Если ж украдено покупное, так вора учат уже мужики, Они не глумятся, как бабы, и не визжат, а берут из забора жердины, цепи из-под навеса или песты от крупорушных ступ и учат ими сплеча.
Дрожь сотрясала Ксюшу от страха перед расправой, и все же крепла решимость украсть шаль, топор, соль – а там будь, что будет.
– Не-е, не тащи меня в амбарушку, все одно не пойду, – повторяла Арина, для верности уцепившись за перила крылечка.- Повенчайся, тогда сама побегу куда хошь, – и ушла в избу. А солдат заворчал!
– Ох, хитрющая баба. Растравила, скажи, аж в глазах зелено – и домой. Я ж ей ясно все объяснил…
Пропели первые петухи, и с гор потянуло душистой прохладой высокогорных лугов, потом холодом. А в Арининой избе все еще пели. Тревога становилась острей, переходила в глухую неприязнь против крестной. «В селе битые стонут, мертвый Кирюха лежит, а ей ровно троица. Тьфу!»
– Ой, не лезь, – донесся до Ксюши Аринин визг, – ха-ха-ха, не лезь, говорю. Я шшикотки до смерти боюсь. – И сразу перестук каблуков.
Ох, я на горку шла,
Ох, тяжело несла,
Ох, приморилась, приморилась,
Пригорюнилась,
«Вроде не в лад запели? Вроде сон их морит? Скорей бы».
В избе еще погалдели, погалдели и угомонились. Ксюша немного выждала и осторожно потянула за скобу. Дверь подалась, но где в потемках искать Арину? Может, спит на печи, а может быть, на постели. Одна ли?…
Эх, была не была, другого пути, видно, нет. Ксюша решительно дернула дверь и прямо с порога сказала громко:
– Арина! Офицер, что у Кузьмы Иваныча квартирует, живо звал, – сбежала с крыльца и спряталась за стайкой. В дверях показалась Арина. Подбежала к Ксюше.
– Сдурела. Тебя везде ищут солдаты. Полсела мужиков в тайгу угнали тебя искать, а ты сама в петлю лезешь. За твою-то голову офицер четвертную сулил…
– Крестна, – перебила Ксюша, – мне хлеба надо. Масла малость сбивного, раны помазать. Картошки. Огниво с кремнем. Нож еще надо. Шаль теплую.
– Для коммунаровской комиссарши?
– Молчи.
– Ксюшенька, идем в амбарушку. Все дам, только торопись, родненькая. Сколь я тут без тебя передумала. Над коммунией вашей, сама знаешь, смеялась, а как сегодняшнее пришло: людей пороть… дитя саблей…
– Какое дитя?
– Егорову Оленьку. Боже мой, саблей – и надвое, А Вера-то ваша не крикнула. Кровь хлещет со спины, а она молчит и молчит. Видать, правда на ее стороне.
– А сама с солдатами бражничаешь.
– Одинокая бабья судьбинушка, Ксюша, пойми ты… – оправдывалась Арина, собирая в потемках что-то в мешок, Ты давно тут меня поджидашь?
– Солнце садилось.
– Неужто!
Быстро уложив продукты и вещи в два мешка, Арина взвалила один на плечи.
– Я тебе помогу.
Перелезая через забор, Ксюша тихо присвистнула.
– Крестна, вертайся в избу, мне винтовка нужна. Возьми у солдат да патронов поболе.
– Ты, касатушка, вовсе сдурела. Мне в таком разе завтра солнца не видать.
– Запорют, – согласилась Ксюша, слезая с забора назад в огород. – Однако и без винтовки в тайгу уйти не могу… вдруг, не дай бог, солдаты на нас наткнутся.
– Ой, лишеньки, неужто в людей стрелять станешь?
Ксюша ответила глухо:
– Надо винтовку… Ты, крестна, штоб тебя утром не запороли, со мной уйдешь.
– От избы? От хозяйства? Да ты вовсе шальная стала. Я вам потом муки дам, яичек. Все, все отдам,