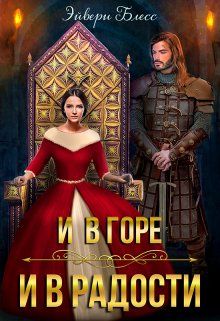каждой группы, словно представители команды. Я нашла туалет для инвалидов и там расплакалась.
Ингрид сказала, что боязнь дней рождения называется «фрагапанофобия». Это был познавательный факт, напечатанный на отклеивающихся полосках бумаги с прокладок, которые, как она говорила, теперь были главным источником ее интеллектуальной стимуляции и единственным чтивом, на которое ей хватало времени. В своей речи она сказала: «Мы все знаем Марту как отличного слушателя, особенно если говорит она сама». У Патрика были какие-то записи на небольших листочках для заметок.
Нельзя определить один конкретный момент, когда я стала вот такой женой, однако если бы пришлось его выбирать, то эпизод, когда я пересекла помещение и попросила мужа не зачитывать, что бы он там ни написал на своих листочках, был бы одним из претендентов.
Любой свидетель моего брака подумал бы, что я даже не старалась стать хорошей женой или женой получше. Или конкретно в тот вечер решил бы, что стать такой было моей целью, к которой я целенаправленно стремилась в течение долгих лет. Они бы не поняли, что большую часть взрослой жизни и весь мой брак я старалась стать собственной противоположностью.
* * *
На следующее утро я сказала Патрику, что извиняюсь за все. Он сделал кофе и унес его в гостиную, но не притронулся к нему, когда я последовала за ним. Он сидел на краю дивана. Я тоже села и поджала под себя ноги. Лицом к нему эта поза казалась умоляющей, поэтому я спустила одну ногу на пол.
– Я не нарочно себя так веду. – Я заставила себя положить ладонь на его руку. Впервые за пять месяцев я намеренно коснулась его. – Патрик, я правда ничего не могу с этим поделать.
– Но при этом тебе как-то удается оставаться милой со своей сестрой. – Он стряхнул мою руку и сказал, что сходит за газетой. Он не возвращался пять часов.
Мне по-прежнему сорок. Сейчас конец зимы, 2018 год, это уже не год «Негрони». Патрик ушел через два дня после той вечеринки.
Мой отец поэт, его зовут Фергюс Рассел. Ему было девятнадцать, когда его первое стихотворение было опубликовано в журнале «Нью-йоркер». Там шла речь про птицу из вымирающего вида. Когда оно вышло, кто-то назвал его Сильвией Плат мужского пола. Он получил весомый аванс за свою первую грядущую антологию. Моя мать, которая тогда была его девушкой, якобы спросила: «А нам нужна Сильвия Плат мужского пола?». Она это отрицает, но такова семейная легенда. Ее не перепишешь. То стихотворение оказалось последним опубликованным сочинением отца. Он говорит, что мать его прокляла. Она отрицает и это. Антология остается грядущей. Не знаю, что случилось с авансом.
Моя мать – скульптор по имени Силия Барри. Она создает птиц, грозных и огромных, из переосмысленных материалов. Грабли без черенка, моторчики от бытовой техники, вещи из дома. Однажды на одной из ее выставок Патрик сказал: «Я искренне считаю, что не существует физической материи, которую твоя мать не смогла бы переосмыслить». Он не имел в виду ничего плохого. Очень мало вещей в доме моих родителей функционирует в соответствии со своими первоначальными задачами.
В детстве, когда мы с сестрой слышали, как мать говорила кому-то: «Я скульптор», Ингрид одними губами произносила строчку из песни Элтона Джона[2]. Я начинала смеяться, а она все продолжала, закрыв глаза и прижав кулаки к груди, пока я не была вынуждена выйти из комнаты. Это никогда не переставало меня смешить.
Согласно «Таймс», моя мать – скульптор второго ряда. Когда вышла та заметка, мы с Патриком были дома у моих родителей, помогали моему отцу переставить мебель в кабинете. Она прочитала ее вслух нам троим, невесело посмеявшись над отрывком, где шла речь о «втором ряде». Мой отец сказал, что согласился бы на любой. «И они написали о тебе с определенным артиклем the. Тот самый скульптор Силия Барри. Подумай о нас, неопределенных». Позже он вырезал статью и приклеил к холодильнику. Роль моего отца в их браке – безжалостное самоотречение.
* * *
Иногда Ингрид заставляет кого-нибудь из своих детей звонить мне и болтать по телефону, потому что, по ее словам, она хочет, чтобы у нас были очень близкие отношения, а еще благодаря этому они хотя бы на пять секунд оставляют ее в покое. Однажды ее старший сын позвонил мне и сказал, что на почте была толстая женщина и что его любимый сыр – тот, который продается в пакетике, такого беловатого цвета. Потом Ингрид написала мне эсэмэску: «Он имел в виду чеддер».
Не знаю, когда он перестанет называть меня Марфой. Надеюсь, никогда.
* * *
Наши родители до сих пор живут в доме, где мы выросли, на Голдхок-роуд в Шепердс-Буш. Они купили его, когда мне исполнилось десять, а деньги им дала в долг сестра моей матери Уинсом, которая вышла замуж за богатство, а не за Сильвию Плат. В детстве они жили в квартире над мастерской по изготовлению ключей, как всем рассказывает мать, «в депрессивном приморском городке с депрессивной приморской матерью». Уинсом на семь лет старше ее. Когда их мать внезапно умерла от неустановленного типа рака, а отец потерял интерес ко всему и к ним в частности, Уинсом бросила Королевский музыкальный колледж и вернулась присматривать за моей матерью, которой тогда было тринадцать. Карьера у нее так и не сложилась. А моя мать – скульптор второстепенной важности.
Именно Уинсом нашла дом на Голдхок-роуд и устроила так, что мои родители заплатили за него гораздо меньше, чем он стоил, потому что это было выморочное имущество, и, как говорила мать, судя по запаху, тело прежнего хозяина все еще валялось где-то под ковром.
В тот день, когда мы переехали, Уинсом пришла помочь отмыть кухню. Я вошла, чтобы что-то взять, и увидела мать, которая сидела за столом и пила вино из бокала, и тетю в жилетке для уборки и в резиновых перчатках, которая стояла на верхней ступеньке стремянки и протирала полки внутри шкафчиков.
Они перестали разговаривать, а затем снова заговорили, когда я вышла из комнаты. Я стояла за дверью и слышала, как Уинсом говорила моей матери, что ей, возможно, следует хотя бы попытаться изобразить намек на благодарность, ведь иметь собственный дом – вещь обычно недостижимая для скульптора и поэта, который не сочиняет стихов. Мать потом не разговаривала с ней восемь месяцев.
И тогда, и сейчас она ненавидит этот дом, потому что он узкий и темный; потому