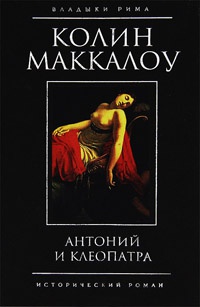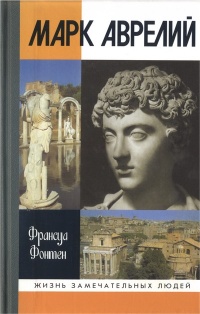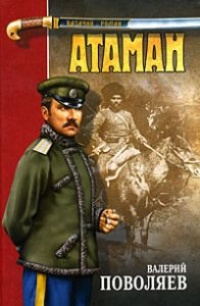комедии, — холодно ответил Аврелий, которому не хотелось говорить плохо о друге. — Хотя, думаю, ты вряд ли видел её при том, сколько стоит билет!
— А вот и нет! Я ходил на представление как раз вчера вечером, — со злорадным ликованием возразил Токул и показал бронзовый сенаторский пропуск в театр, дающий право занимать места в первом ряду в театре Марцелла.
Выходит, отцы-основатели уже приняли его в своё общество наравне с самыми знаменитыми римскими фамилиями. Но чтобы с достоинством носить латиклавию, Токулу придётся заказать себе более просторную тогу, подумал патриций, поудобнее располагаясь на триклинии.
Тут хозяин дома, по обычаю, пролил в честь богов на пол несколько капель вина, подавая тем самым знак к началу торжественного ужина.
Сразу же принесли закуску — устрицы, мидии, улитки, откормленные на ароматических травах, греческие оливки и пиченский хлеб. Всё это сопровождалось разнообразными салатами, приправленными чесноком и руколой.
Публий Аврелий с удовольствием принялся за еду, разглядывая при этом очаровательную Ко-реллию, которая возлежала на триклинии радом с супругом и великодушно позволяла всем присутствующим любоваться собой.
— Говорят, жена Метрония попалась на удочку жреца Зевса, — послышался голос сидящей неподалёку пожилой Домитиллы, что соперничала с Помпонией за звание самой сведущей сплетницы в Городе.
Сенатор, которого долгое знакомство со своей любознательной подругой уже научило понимать всю важность злословия, не преминул навострить уши.
— Обратил внимание на тогу Токула? — заметил кто-то из гостей. — Могу поклясться, это та самая, в которой полвека тому назад его отец ходил на заседания Сената. Только такой скупец, как он, мог отважиться явиться в дом консула в подобном виде!
Тем временем разносили жаркое, и посреди пиршественного зала появились танцовщицы из Гадеса[3], которые должны были порадовать гостей, кружась под звуки кастаньет и бубнов.
Аврелий непринуждённо беседовал с Домитил-лой, когда почувствовал, что кто-то легко коснулся его плеча.
— Прекрати присваивать себе всё женское внимание, или другие гости не простят мне, что я тебя пригласила, — упрекнула Кореллия сенатора, прежде чем взять его под руку и вырвать из когтей сплетницы.
Догадываясь, что предстоит какой-то интересный разговор, Домитилла хотела последовать за ними, но тут какой-то неуклюжий слуга вдруг споткнулся, и на её шёлковую паллу пролилось почти всё содержимое керамической чаши, которую он собирался поставить на стол.
— Прости мою неосторожность, кирия![4] — извинился неловкий слуга, и сенатор улыбнулся, узнав александрийский акцент Кастора, своего бесподобного секретаря, поспешившего ему на помощь.
Мгновение спустя Аврелий уже прогуливался вместе с первой дамой Рима по перистилю, задаваясь вопросом, как лучше начать атаку на добродетель матроны.
— А, вот, наконец, и наш Валерий! — вдруг воскликнул сенатор, увидев в атриуме старого друга под руку с какой-то высокой женщиной, но успел рассмотреть только её чёрные косы, уложенные на затылке.
Валерий мало изменился за последние два года, отметил патриций: те же глубоко посаженные беспокойные глаза, тот же волевой подбородок, та же манера сутулиться, словно извиняясь за свой высокий рост.
Полководец сразу же подошёл к нему.
— Сколько времени не виделись, Аврелий! — с волнением произнёс он.
— Возвращаешься со славой… Говорят, тебя удостоят овации…[5] Впрочем, триумфом теперь чествуют только императора! — поздравил его патриций.
— Знал бы ты, сколько мне нужно рассказать тебе… Но здесь слишком много людей… Встретимся на днях с глазу на глаз.
И в этот момент сопровождавшая его женщина обернулась. Тонкий профиль, густые прямые брови, высокий и гордый лоб — это лицо Публий Аврелий узнал бы среди тысяч других.
Он закусил губу и почувствовал, как мурашки побежали по спине, словно увидел призрака, но не успел опомниться, как Валерий и его спутница исчезли в толпе гостей.
Кореллия нетерпеливо потянула его за тогу.
— Зная твою славу знатока искусства, мой муж просил показать тебе бронзовую этрусскую статуэтку, которую он приобрёл у антиквара на Септе Юлии[6], — щебетала она, увлекая сенатора во внутренние покои домуса, где звуки флейты и шумный говор гостей звучали тише.
Кореллия приоткрыла резную дверь и пропустила гостя в полумрак таблинума[7], освещённого лишь светом наружных факелов. Она прошла немного вперёд и вдруг упала с глухим возгласом.
Аврелий бросился к ней и помог подняться.
— Ударилась? — заботливо спросил он, заметив при этом, что, приподнимаясь, матрона задержалась в его объятиях на мгновение дольше необходимого.
«Искусство любви, часть третья», — вспомнил сенатор, наизусть знавший знаменитое сочинение Овидая, первого учителя сладострастной любви, как его называли в Риме, где он стал самым читаемым автором.
— Завтра, — не колеблясь, шепнул он матроне. — В десятом часу утра у храма Эскулапа на острове Тиберина тебя будет ожидать паланкин. Мои носильщики знают, куда направиться.
— Что ты имеешь в виду? О чём это ты? — ответила Кореллия, изображая недоумение.
— Ты прекрасно всё понимаешь, — уверенно возразил патриций.
— Какой нахал и грубиян! — воскликнула женщина, отталкивая его.
И тут же в коридоре прозвучал взволнованный голос Паула Метрония:
— Кореллия, ты здесь?
Аврелий успел шагнуть за штору, а матрона поспешила навстречу мужу.
— Дай мне минутку, хочу переодеться к ужину, Паул. Одежда на мне уже вся мокрая от пота…
— Конечно, дорогая, не спеши. Кстати, не знаешь, случайно, где скрывается сенатор Стаций? Мне нужно поговорить с ним.
— Я видела его в летнем триклинии в окружении женщин, увешанных драгоценностями.
— Будь обходительна с ним, прошу тебя, это очень полезный человек. Однако не слишком доверяй ему. Он известный греховодник и может неправильно истолковать твою вежливость.
— Не беспокойся, я сумею поставить его на место, — заверила жена, незаметно указывая патрицию коридор, по которому он мог удалиться.
Когда Публий оказался в главном зале, к нему сразу же направился Метроний.
— Мне надо бы поговорить с тобой, Аврелий. Пойдём, — предложил консул, увлекая его за собой.
Вскоре они сидели за большим чёрным мраморным столом, заваленным грудой папирусных свитков и пергаментов.
— Если не ошибаюсь, Публий Аврелий, тебе сорок три года, — Паул Метроний коснулся вопроса, который сенатор не любил обсуждать.
— Ещё не исполнилось, — уточнил патриций.