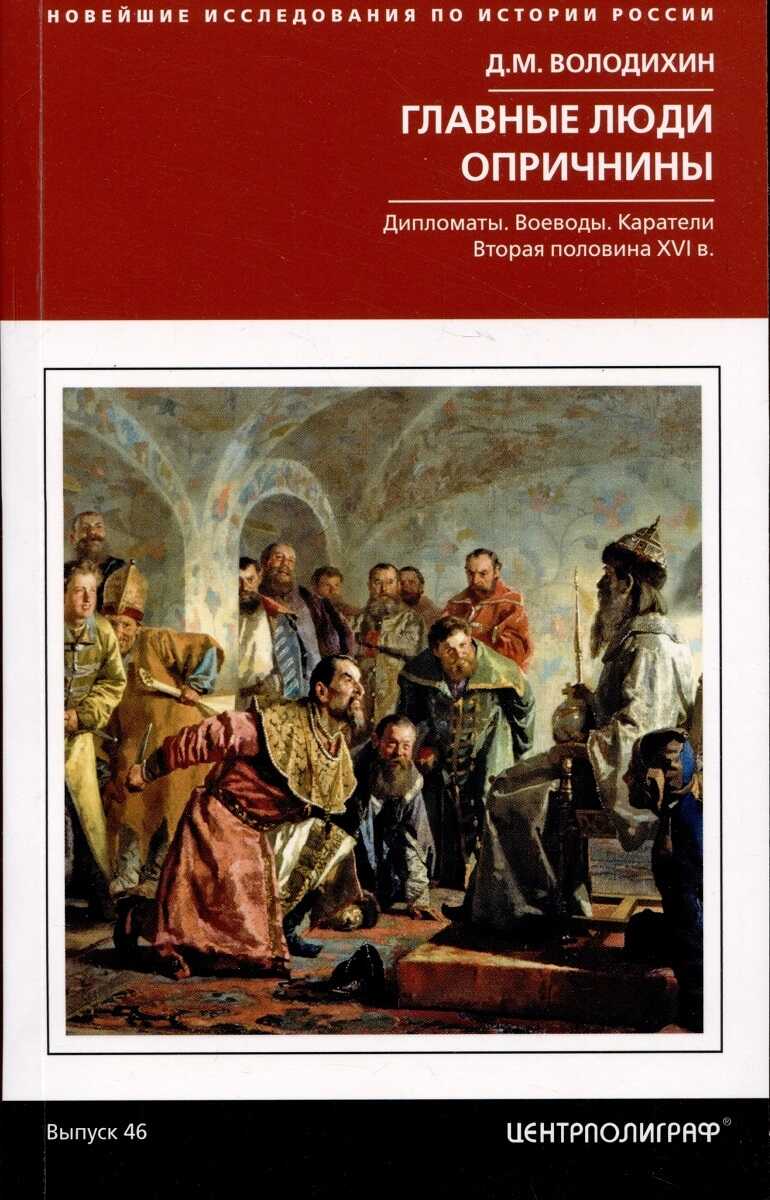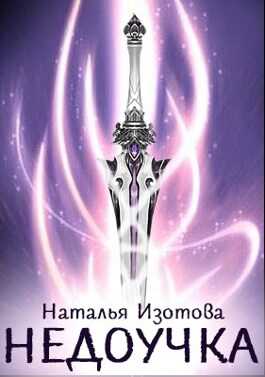Ничего себе! Ему редактор дает корректировать свои передовицы и потом никогда не просматривает, а этот Зингерович накропал шестнадцать строчек, в основном даже не зарифмованных, и ему не доверяет. Но не только в этом дело. Бернштейн боится конкуренции. Он признает, что у Зингеровича настоящий талант к корректуре, а кто знает, что может случиться. Стишками поэт еле-еле на папиросы зарабатывает, и Бернштейну все время кажется, что Зингерович метит на его место.
— Ей-богу, — говорит он Зингеровичу, когда тот печатает очередное стихотворение и приходит узнать насчет корректуры, — ей-богу, Зингерович, зря вы так… Вы мне мешаете. У меня столько работы, а вы мне голову дурите. Я что, без вас не смогу в ваших стихах опечатки вычитать?
Но поэт — человек упрямый. Однажды в его стихотворении вместо «мгновенье» напечатали «мгновение», с лишним слогом, из-за чего нарушился размер, и с тех пор Зингерович обязательно делает корректуру сам.
— Вы себе не представляете, — наскакивает он на Бернштейна, — что я пережил из-за тех стихов. Неделю спать не мог!
Бернштейн видит, что надо сменить тактику.
— Ну, вот вам оттиск, — говорит он мягко. — Давайте вместе посмотрим…
— Нет! Нет! — Зингерович остается тверд. — Я сам проверю. Давайте сюда!
Бернштейн дрожащей рукой протягивает ему лист бумаги:
— Эх, пане Зингерович! Зря вы так. Вас бы самого проверить…
*
К двенадцати ночи Бернштейн заканчивает работу и идет домой.
Он снимает комнатушку в еврейском квартале, на четвертом этаже. Конечно, высоковато подниматься, даже колени болят, но он все равно доволен комнатой. Бернштейн живет у старой семейной пары, детей у них нет. То что надо: тихо, спокойно. Бывает, Бернштейн берет на дом дополнительную работу, не газетную статью, а какое-нибудь серьезное сочинение, и, когда никто не мешает искать опечатки, он ни одной не проглядит.
Но иногда становится тоскливо. Горит свечка, на стенах лежат густые тени, он сам тоже отбрасывает тень, нелепую, странную, с очень большой головой. Он смотрит на свою узкую кровать.
На ней лежит мягкий матрац, в котором каждые два месяца обязательно меняют сено. Подушка тоже мягкая. И все-таки ему часто бывает жестко и неудобно. Он ворочается с боку на бок, вспоминает какие-то давние события, подсчитывает, сколько ему лет. Бернштейн не знает своего возраста, но точно далеко за тридцать. «Это большая ошибка, — думает он, — что я не познакомлюсь с какой-нибудь девушкой. Давно пора близкого человека найти…»
И он вспоминает, что несколько лет назад познакомился с хорошей, милой девушкой. Он ей тоже понравился. Однажды он взял ее за руку, и она смутилась, даже покраснела. Значит, ей было приятно… Он мог бы ей сказать, что хочет жениться… Но он помнит, что испугался. Свадьба — это не шутка. Если ошибешься, потом не исправишь, это тебе не опечатка в оттиске.
Но, лежа в кровати, он жалеет, что так получилось. Все-таки надо было сказать: «Я люблю тебя, ты меня, кажется, тоже. Выходи за меня замуж…»
«Я сделал ошибку», — думает Бернштейн и поворачивается на другой бок.
*
Субботнее утро. Бернштейн идет в немецкую синагогу. Не на молитву — еще не хватало, он уже лет десять считает себя вольнодумцем, — но чтобы послушать хоровое пение. Слушает и рассматривает таблички на стенах: имена попечителей, кто сколько денег пожертвовал. Он уже давно нашел в табличках пару ошибок, и каждую субботу внимательно разглядывает надписи, будто в первый раз. Ужасно хочется подойти и исправить…
Субботними вечерами, особенно летом, он гуляет по Маршалковской. Не один, а со знакомым по редакции. Настроение прекрасное, они говорят о работе, Бернштейн рассказывает про опечатку, ошибку, которую он пропустил, но не по своей вине… Вдруг знакомый по редакции встречает какого-то приятеля и уходит с ним, а Бернштейн дальше бредет по шумной, оживленной улице. Ему становится грустно. Навстречу движутся веселые, молодые, нарядные парочки, словно оттиски без опечаток. Они толкают его, будто не видят, они его не знают и знать не хотят… И Бернштейну кажется, что в шумной, веселой толпе он — закравшаяся ошибка, но сейчас явится опытный, внимательный корректор, вычеркнет его жирным штрихом, и его, как опечатку, отсюда выкинут…
Испуганный, одинокий, он блуждает по улицам, как ходячая ошибка, пока не стемнеет. Тогда он вспоминает, что завтра ни свет ни заря должен выйти утренний номер, и бежит в редакцию делать корректуру.
И уже через полчаса, опять спокойный и гордый, отлавливает опечатку за опечаткой.
1906
Жилет
Даже зимой у Довида Фейгина было немного учеников, но все-таки два часа занятий, за которые он получал пятнадцать рублей в месяц, и еще несколько рублей, которые он занимал у близких и шапочных знакомых, давали ему возможность существовать в большом городе. Но когда наступило лето, милое лето, которого Довид так ждал, два занятия растаяли, будто снег на солнце, и Довиду пришлось кормиться случайными уроками, за которые он получал самое большее десять копеек, да еще продать за рубль зимнюю одежду, несмотря на то что по осени он купил ее на дешевой улице за четыре.
Зимнюю одежду Довид проел очень быстро, хотя, вопреки своему характеру, изо всех сил старался экономить. Занять удавалось гораздо реже, чем приходилось отдавать, и Довид задумался, что бы еще снять с себя на продажу. Но у него больше ничего не было. Он слышал, что в Америке летом ходят без пиджака, но Америка — свободная страна, и там все по уму, а здесь, если он выйдет на улицу без пиджака, сразу толпа соберется. Частенько ему хотелось собраться с духом, продать пиджак и наплевать на весь мир. Если в мире нет для всех хлеба, ничего страшного, если и пиджака не будет! Но эту идею тут же вытесняла другая, более здравая: «Дурак! Если ты такой сильный, чтобы воевать против целого мира, против всех порядков и обычаев и по улице без пиджака ходить, то используй свою силу для других целей, и тогда у тебя даже фрак будет и цилиндр…»
Довид Фейгин пофилософствовал, поразмыслил, что к чему, решил, что вторая идея, как это ни печально, получше будет, и распрощался с мыслью продать пиджак, вздохнув при этом, как может вздохнуть лишь тот, кто совсем отчаялся и утратил последнюю надежду на счастье.
Каждое утро, лежа в кровати, за которую он платил десять злотых в месяц и уже задолжал три рубля, но хозяйка из жалости позволила ему пожить в долг до лучших времен, — каждое утро, лежа в кровати и слушая пение «Старое берем! Старое берем!»,