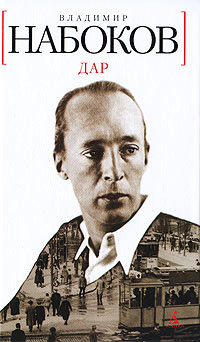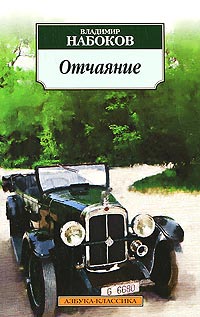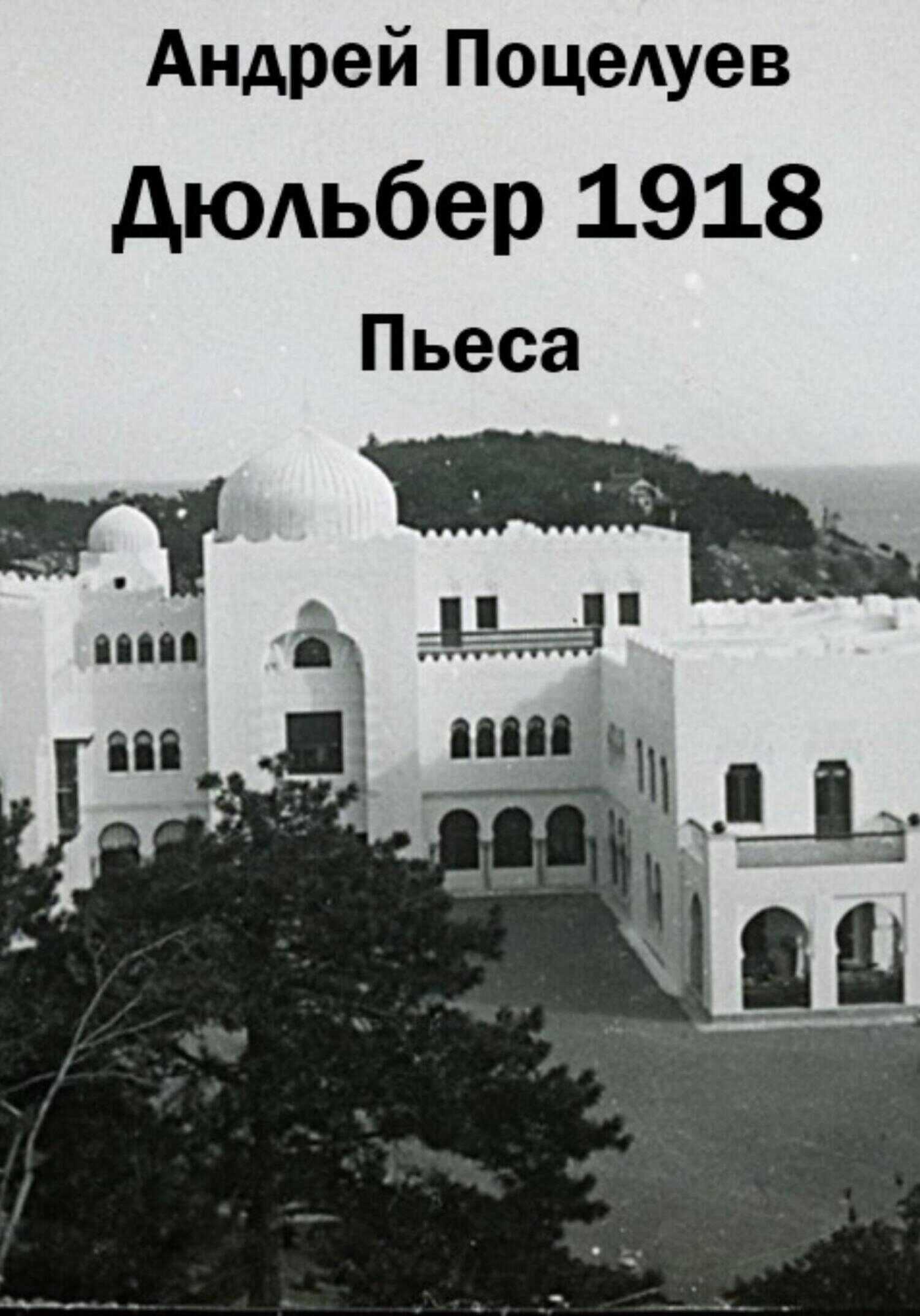к американскому критику и писателю Э. Уилсону (соавтору Набокова по английскому переводу «Моцарта и Сальери» Пушкина), предложившему другой, по его мнению, более подходящий к пушкинскому замыслу финал «Русалки» (встретившись с днепровской царицей, князь сходит с ума), Набоков категорично заявил: «Экономный Пушкин никогда бы не сделал безумными двух персонажей – старого мельника и князя. Окончание, которое я сочинил, идеально соответствует обычным концовкам всех легенд и русских сказок о русалках и феях, – смотри, к примеру, “Русалку” Лермонтова или поэму “Русалка” А.К. Толстого и т. п. Пушкин никогда не ломал скелета традиции, он просто перераспределял его внутренние части – с менее эффектными, но более жизнеспособными результатами» (Dear Bunny – Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971 / Ed. by S. Karlinsky. Berkeley et al.: University of California Press, 2001. P. 73. Письмо от 16 июня 1942 г. Перевод мой). К этому остается добавить, что избранный Набоковым вариант развязки близок ранней шутливой «Русалке» (1819) Пушкина, которая завершается так: «…Монаха не нашли нигде, / И только бороду седую / Мальчишки видели в воде» (Пушкин. А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 1. С. 322). В «Поэтическом хозяйстве Пушкина» Ходасевич заметил, что «Русалка» «должна была стать трагедией возобновившейся любви к мертвой», что подтверждается, по его мнению, и наброском Пушкина «Как счастлив я, когда могу покинуть…» (1826), в котором герой «рад оставить жизнь» ради любви и ласк русалки (Там же. Т. 5. С. 478). Сценой на днепровском дне завершался и фильм В. Гончарова «Русалка. Народная драма в 6 сценах с апофеозом» (1910): князь возлежит у ног сидящей на троне русалки-царицы (см.: Великий кинемо. Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 1908–1919 / Сост. В. Иванова и др. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 68–69).
Однако убежденность Набокова в единственно подходящем финале для пушкинской пьесы возникла не сразу. Черновой вариант завершения «Русалки», следующий в набросках к продолжению «Дара» после визита в парижскую квартиру Федора и Зины родственника Зины Кострицкого и перед описанием свиданий Федора с проституткой Ивонн, был иной: князь не поддается на призыв русалочки и убегает в лес, где вешается. Его последние слова: «О смерть моя! Сгинь, страшная малютка!» – после чего следует ремарка: «Убегает». Хор русалок поет о «тени, качающейся в петле» (Набоков В. Дар. Часть II. И «Русалка». С.370). Сохранился черновик другой редакции этой сцены на отдельных листах (LCA. Box. 13, fol. 29), в котором Набоков попытался воспроизвести пушкинский росчерк («А. Пушкин»); в нем намечены два финала: по одному Князь убегает, по другому – «бросается в Днепр».
Русалочья тема возникает у Набокова уже в ранних стихотворениях «Русалка» (сб. «Горний путь», 1923), «Река» (1923) и в других произведениях (см.: Johnson D.B. «L’Inconnue de la Seine» and Nabokov’s Naiads // Comparative Literature. V. 44, № 1 (1992) P. 225–248; Grayson J. «Rusalka» and The Person from Porlok // Symbolism and After: Essays on Russian Poetry in Honor of G. Donchin / Ed. by A. McMillin. L.: Bristol Classical Press, 1992. P. 162–185).
С. 147. Берег. Князь. Печальные, печальные мечты <…> прекрасное дитя? – Набоков вводит в свое продолжение «Русалки» финальную часть монолога Князя и последние строки, на которых обрывается пушкинский текст.
С. 148. Я б деду отнесла, да мудрено / его поймать. Крылом мах-мах и скрылся. <…> Ворон. <…> ты – дочка рыбака… – Здесь Набоков совмещает две сцены из «Русалки» – «Светлицу», в которой Мамка говорит: «Княгинюшка, мужчина что петух: / Кири куку! мах мах крылом и прочь» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 375), и «Днепр. Ночь», в которой помешавшийся Мельник в разговоре с Князем называет себя вороном. Затем Мельник рассказывает, что за ним присматривает «внучка», «русалочка». Таким образом очевидно, что Набоков не ставил перед собой цели последовательного продолжения пушкинского текста (как и точной стилизации пушкинского стиха), поскольку князю должно быть ясно, во‐первых, о чем говорит Русалочка, когда упоминает деда-ворона (с которым он встретился всего за день до этого), и, во‐вторых, что она его собственная дочь. Кроме того, нельзя назвать логичным повтор реплики Мамки. Не соответствует пушкинскому и сам образ бесхитростной Русалочки, заговорившей у Набокова усложненно-образной речью.
С. 149. Так ты меня боишься? <…> она у нас царица… – В черновиках продолжения «Дара»: «Дочь. Полно, ты не бойся. / Потешь меня. Мне говорила мать, / что ты прекрасен, ласков и отважен. / Восьмой уж год скучаю без отца, / а наши дни вместительнее ваших / и медленнее кровь у нас течет. / В младенчестве я все на дне сидела / и вкруг остановившиеся рыбки / дышали и глядели. А теперь / я часто выхожу на этот берег / и рву цветы ночные / для матери…» (Набоков В. Дар. Часть II. И «Русалка». С. 369). Замечание, которое Кончеев высказывает по поводу этих строк в набросках продолжения «Дара» («К.: мне только не нравится насчет рыб. Оперетка у вас перешла в аквариум. Это наблюдательность двадцатого века»), вызывает в памяти образы стихотворения Ходасевича «Берлинское» (1922): «А там, за толстым и огромным / Отполированным стеклом, / Как бы в аквариуме темном, / В аквариуме голубом – / Многоочитые трамваи / Плывут между подводных лип, / Как электрические стаи / Светящихся ленивых рыб» (Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1996. Т. 1. С. 258).
…я все люблю его, все улыбаюсь… – Развитие пушкинского текста: «Русалка. И если спросит он, / Забыла ль я его иль нет, скажи, / Что всё его я помню и люблю / И жду к себе. Ты поняла меня?» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 5. С. 384).
Да, этот голос милый / мне памятен. <…> Видишь, луна… – В продолжении «Дара»: «Князь. Да, этот голос милый / мне памятен, и вздох ее и ночь… // Дочь. Отец, не хмурься, расскажи мне сказку. / Земных забав хочу я. Научи / свивать венки, а я зато… Ах, знаю, – / дай руку. Подойдем поближе. Видишь, / играет рябь, нагнись, смотри на дно» (Набоков В. Дар. Часть II. И «Русалка». С. 369).
Только человек боится нежити… – «Нежить» – рассказ Набокова 1920 г., навеянный одноименной сказкой 1907 г. А.М. Ремизова.
Дай руку. Видишь, / луна… – Параллель к пятой главе «Дара», ср.: «Дай руку, дорогой читатель, и войдем со мной в лес. Смотри: сначала – сквозистые места…» (Набоков В. Дар. С. 431), – призванная, по‐видимому, обозначить связь двух произведений в рамках неосуществленного замысла продолжения «Дара».
Ее глаза сквозь воду ясно светят… – Ср. в отрывке Пушкина «Как счастлив я, когда могу покинуть…» (1826), относящемуся к первоначальному замыслу «Русалки», описание русалки: «Ее глаза то меркнут, то блистают, / Как на небе мерцающие звезды…» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 5. С. 478).
Веди меня, мне страшно, дочь моя… – В продолжении «Дара» Набоков записал два варианта развязки: в первом Князь говорит: «Веди меня в свой тер<ем>, дочь моя», во втором: «(Ступил к реке.) О смерть моя! Сгинь, страшная малютка <!> (Убегает.)» (Набоков В. Дар. Часть II. И «Русалка». С. 370).
С. 150. Русалки (поют)… – Песнь русалок в продолжении «Дара» начиналась с четырех строк из песни русалок в пушкинской сцене «Днепр. Ночь» и несколько измененных слов «Другой» русалки:
Русалки
Любо нам порой ночною
дно речное покидать,
любо вольной головою
высь речную разрезать.
Одна
Между месяцем и нами
кто там ходит по земле?
Другая
Нет, под темными ветвями
тень качается в петле159.
Третья