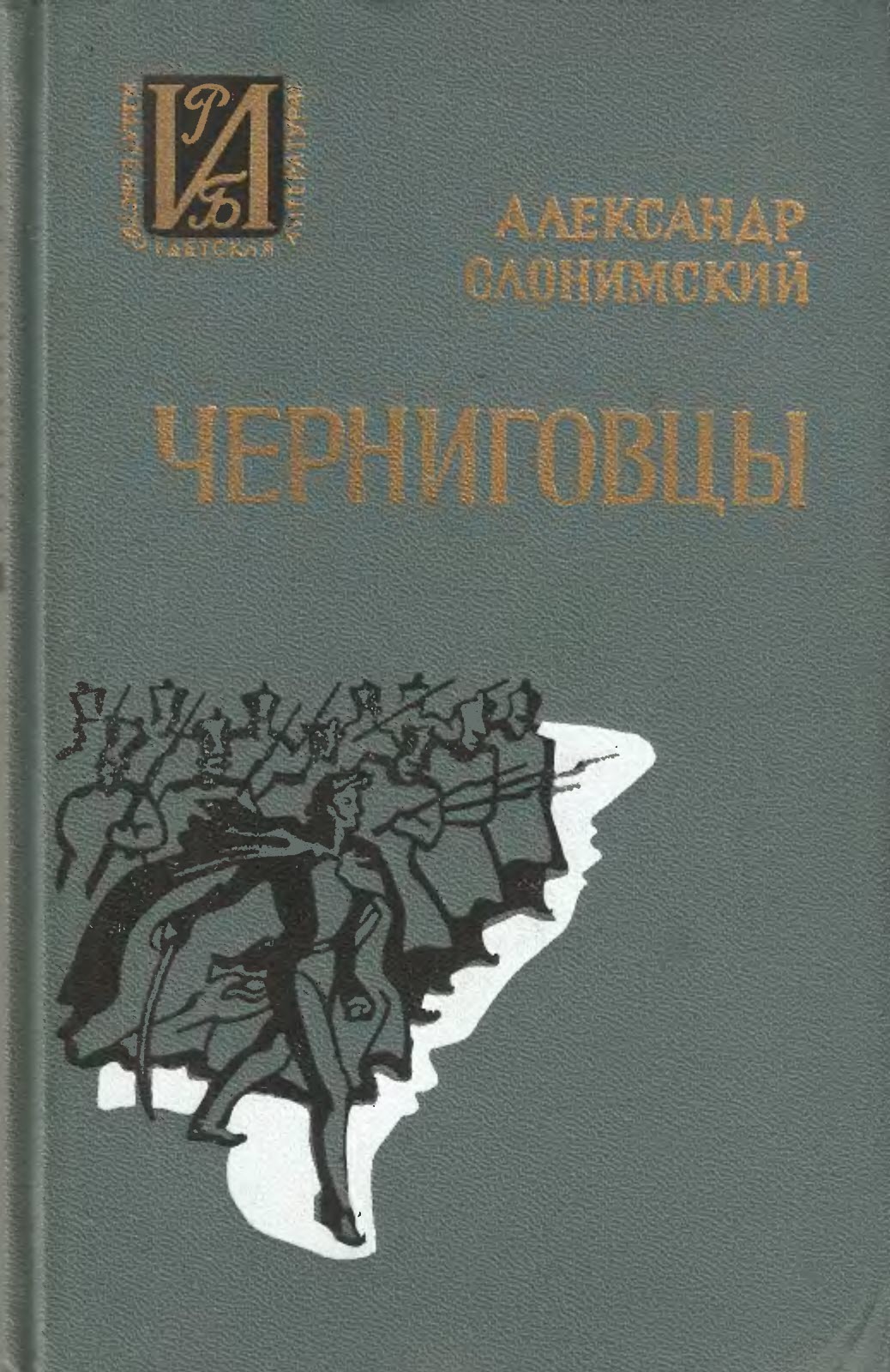должна быть одноэтажной?
У меня изменилось зрение. Раньше я сквозь будущее глядел на настоящее — и мне никого и ничего не было жалко. А теперь я сквозь настоящее гляжу в будущее — и сомневаюсь: правы ли мы? Меня растлил старейший мотив жизни — жалость. Я с ужасом вспоминаю все, что делал в девятнадцатом году. Для того будущего, которое мы с тобой знаем, это необходимо, — но как быть с жалостью? Быт затемнил цель, для которой я жил. Мне жалко людишек: белогвардейцев, коммунистов — всех. Я хочу, чтобы уже теперь все осуществилось и все были бы счастливы.
Вот и получился заскок, порочный круг: чтобы никого не жалеть, нужно перестроить жизнь; чтобы перестроить жизнь, нужно убивать; чтобы убивать, нужно никого не жалеть; чтобы никого не жалеть, нужно перестроить жизнь. Мне из этого порочного круга не выбраться. Меня не хватает на жизнь в обоих этажах сразу. Я оказался вне времени и пространства.
Пусть случай со мной послужит тебе уроком. Стой на земле, а не виси в воздухе. Я знаю — тебя хватит на оба этажа: ты — человек крепкий.
Теперь просьба: женись на Фране. Я знаю — она давно влюблена в тебя. Я знаю все, что произошло между вами после моего отъезда. Не хочу винить тебя. Она явилась к тебе одна, вы ночью остались одни в квартире. Ты, как и я, знал, что она тебя любит. Но если не хочешь оказаться теперь зверем и насильником — женись немедленно. Я убеждаю тебя отвлеченными теориями, а на самом деле мной руководит просто любовь к сестре и жалость к ней, не скрою.
Я сижу сейчас в пивной. Пью третьи сутки. Казенные деньги, чтобы не растратить, выслал по телеграфу. Справься, получены ли они. Меня это беспокоит. Пишу путано, мысли сбиваются, тороплюсь застрелиться. Женись на Фране».
И подпись.
Весь день и всю ночь Олейников видел лицо застрелившегося товарища: круглые щеки, толстый нос и на носу — пенсне. Гриша снимал пенсне, и наивные глаза его мигали растерянно.
IV
В десять часов утра художник Лютый подошел к дому Франи. Взошел по лестнице. На входной двери висел большой железный замок, и в замок сунута была записка брату:
«Гриша, ключ у Лейкиных. Тебе будет большой сюрприз.
Франя».
У Лютого в руке — большой букет роз. Он сунул записку обратно в замок и вышел на площадь.
«Куда это она? И что за сюрприз? Значит, объяснение надо отложить до вечера».
В одиннадцать часов Лютый отправился на линейке губисполкома на рудник Олейникова.
Он ехал, не зная еще, откажется он или нет. Но ведь Франя может всерьез исполнить угрозу.
Олейникова на руднике не оказалось: он в городе. Лютый остался ждать.
С каждым часом ожидания решение его зрело: конечно, отказаться. Ведь Олейников знал, что на сегодня назначено подписание договора, — и уехал.
— Хам!
Лютый похаживал у линейки, восклицая:
— Черт знает что такое! Прямо черт знает что такое!
Восклицал он для кучера, чтобы не уронить своего престижа, а кучер спокойно раскуривал цигарку. Он согласен ждать хоть сто лет.
Мимо проходили занятые делом люди, и от этого ждать было еще противнее.
Лютый растянулся на траве, закинул руки за голову и затих. От солнца и злобы тело взмокло.
— Черт знает что такое!
— Едут, — сказал кучер.
Действительно, по дороге к поселку приближалась тачанка. Кучер узнал ее по лошадям.
Лютый остался лежать на земле: пусть этот хам сам придет к нему.
Тачанка свернула в поселок.
Лютый не тронулся с места. Он закрыл глаза, притворяясь, что спит.
Тачанка пролетела мимо, не остановившись.
Лютый пролежал еще минуту неподвижно.
— К дому подъехали, — сообщил кучер.
Тогда Лютый вскочил и, плюнув, пошел туда, откуда отъезжала пустая уже тачанка, — к дому управляющего рудником Олейникова.
На крыльце он столкнулся с Олейниковым.
Тот начал:
— Простите за неаккуратность…
Лютый перебил криком:
— При таком отношении я отказываюсь! Я жду уже два часа! И, кроме того, я буду работать по собственному плану, писать по заказу не стану. Я — художник и имею достаточно крупное имя, чтобы…
Тут он увидел выглянувшую в окно Франю и затих. А потом, чувствуя, что погибает, что отказ уже неизбежен и что он не понимает решительно ничего, закричал:
— Я договора не подпишу!
Олейников пожал плечами:
— Как хотите. Франя, я только зайду в контору. Я вернусь через час.
И прошел мимо художника, не подав ему руки.
Лютый оторопело глядел на Франю.
Франя ответила спокойно:
— Поздравь. Я вышла замуж за него.
— Как?.. Позволь… А как же вчера?..
— Я вчера о нем думала, а ты мне помешал. И я боялась, что он не любит меня.
— А… а я?
— Ты? При чем же тут ты?
Фране приятно было мучить художника. Она даже огорчилась, когда Лютый пошел вдруг прочь, не попрощавшись.
— Заходи к нам! — крикнула она ему вслед.
И ей на миг страшно стало: что-то не то во всем этом.
— Не сердись! Да остановись же!
Но Лютый не оборачивался даже.
Теперь он понял все: ему — ни любви, ни денег.
Франя потеряна, заказ потерян, и, главное, потеряна бодрость.
Это отразится на работе. В Политпросвете скажут: упадочные рисунки. Как теперь ему рисовать плакаты, где бодрость — это главное!
— Гражданин! Гражданин! Да что же это такое, господи? Гражданин!
Лютый остановился. Он шел прямо к откосу. Еще несколько шагов — и он скатился бы вниз, туда, где шла узкоколейка.
Кучер догнал его и, улыбаясь во всю загорелую рожу, утирал лоб рукавом.
— Уж я кричал-кричал. Побег уж. Вижу: гражданин в яму прет. И расстроен, вижу. От жары, должно, по башке хлопнуло?
— От жары, — отвечал Лютый и пошел к линейке.
V
Весь день пропадал Олейников. Вернулся только к ночи.
За ужином с Франей разговаривал так, словно это была не молодая его жена, а служащий конторы. Слова и движения его были четки и ровны, как у автомата с прекрасно налаженным механизмом. Со стороны можно было подумать: они десять лет женаты.
В семь часов утра Олейников был уже на ногах. Он сидел в одной рубахе у стола и пил молоко. Был он строг и сух — не как муж, а как хозяин.
Франя лежала еще, сбив головой подушку, под щеку подложив ладонь. Она глядела в открытое окно, сквозь серебристую листву тополя — в голубое небо. Оттуда, с неба, где солнце, — свет и тепло.
Франя отвела глаза от неба, и