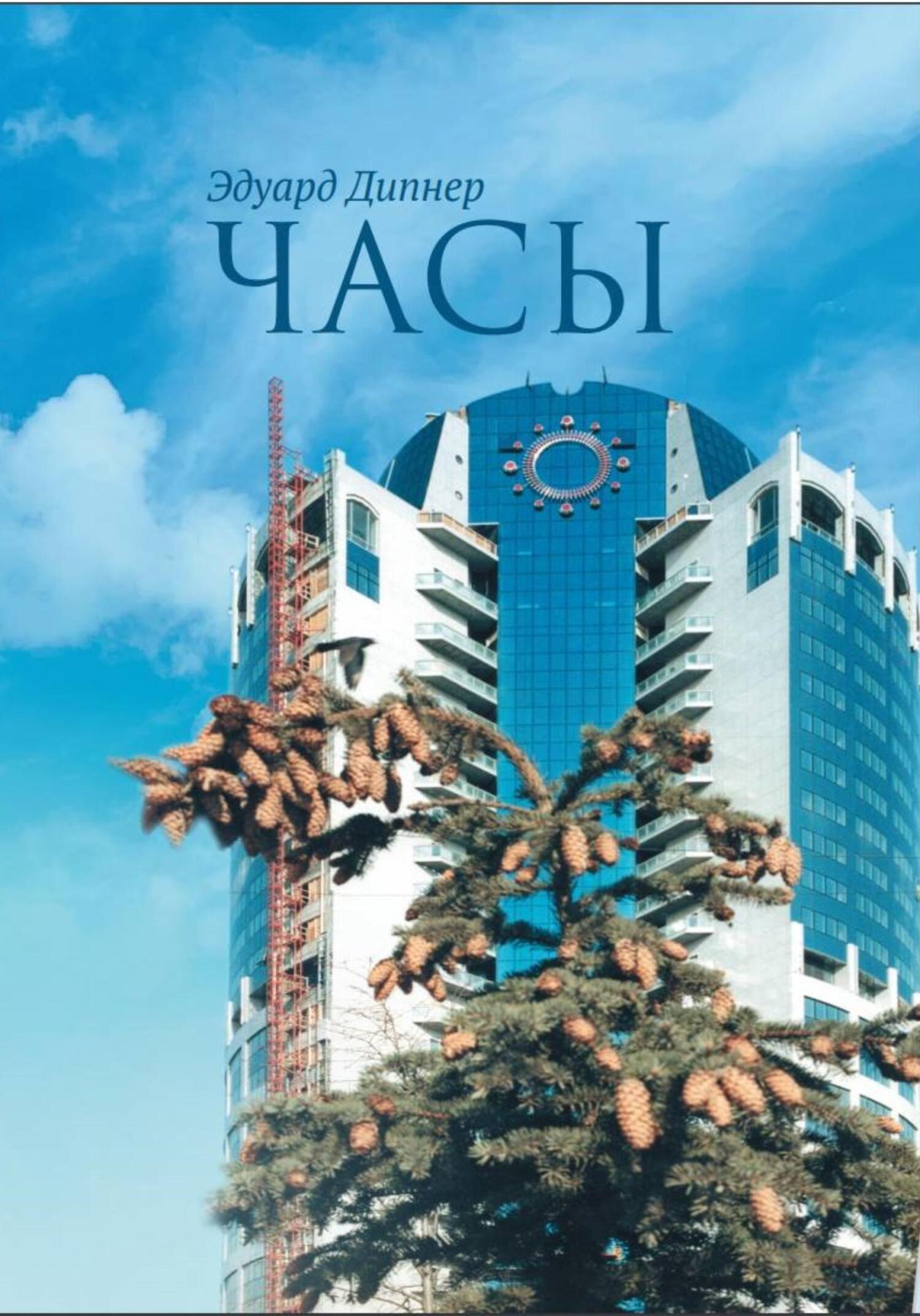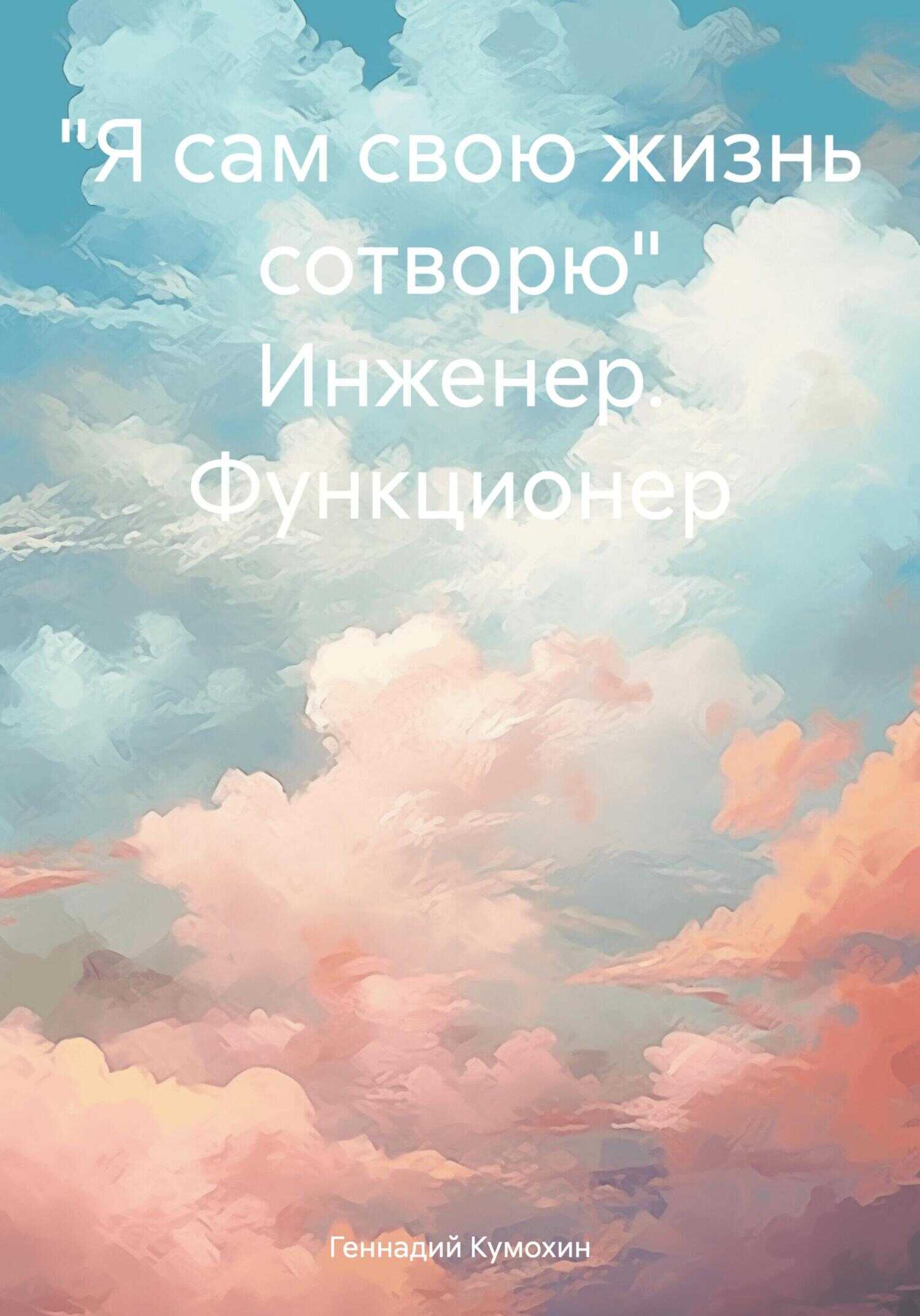сухая.
И процессия движется дальше. Они останавливаются рядом с моей разметочной плитой. На чисто подметенном полу цеха Усатый натыкается на кем-то брошенный обрывок газеты.
— Пинскер! — вопрошает директор, — это что у тебя? Ты что, по цеху не ходишь?
Все знают, что Анатолий Михайлович не только ходит, но и летает по цеху, и у него всегда образцовый порядок. Мне любопытно, я вытягиваю шею, чтобы посмотреть на самого Усатого. На лице директора — холодное, безразличное презрение и к подобострастному окружению, и к необходимости вот так учить их, сопляков, элементарным истинам. Вот в годы войн ы мы работали… а теперь… И почему-то никаких усов у директора нет.
— Василий Александрович, — начальник цеха не лебезит, как Копенкин, — вы не обращайте внимания, подумаешь, беда большая, сейчас уберем.
Но Усатого уже понесло.
— Развели тут б…ство, — гнусит он. — Детали по цеху раскинуты, порядка у тебя, Анатолий Михайлович, нет! А еще передовой начальник цеха. Только бы лясы, как Мелешко, точить!
Директор машет рукой и поворачивается к выходу из цеха. Гуськом, понурив головы, тянется за ним вслед заводское начальство. Сегодня у Усатого плохое настроение.
Моя личная встреча с Василием Александровичем Усатым произошла через восемь лет. Я отслужил срочную службу в армии, окончил заочно институт, и меня представили к должности главного механика. Ковровая дорожка в огромном директорском кабинете от двери до монументального стола казалась бесконечной. Высокие окна завешаны белыми шторами, ниспадающими, забранными лентами, фестонами. Темные дубовые, в человеческий рост, панели вдоль стен и огромный, маслом, портрет Хрущева. Я почувствовал себя мелким и никчемным, стало стыдно за мои не очень чистые, пыльные ботинки, ступавшие по алому ковру дорожки. Директор сидел, нагнув голову за столом, массивным, как постамент под бюстом товарища Сталина перед заводской проходной. Усатый не разрешил убирать низвергнутого вождя с этого постамента, а молодому секретарю райкома, пытавшемуся разъяснить директору новую политику партии, сказал, чтобы тот занимался своими делами и не лез в заводские, завод мой — союзного подчинения, будет директива из Москвы, будем действовать, а пока…
Усатый что-то писал ручкой с золоченым пером. На зеленом поле директорского стола с массивной чернильницей — бронзовый шахтер с отбойным молотком — потерялись три телефона, два белых и один ярко-красный посредине. Слева на приставном, буквой Т, столике с напряженными деревянными спинами сидели кадровичка Хуторная и теперешний парторг Красноперов.
— Садись, — не поднимая головы, произнес директор. Я опасливо уместился на краешке стула. — Ну, что там, Наталья Демидовна?
— Докладная записка Лурье Павел Осича. Рекомендует назначить главным механиком Дипнера Эдуарда Иосифовича.
— А не рано ли мы… — Усатый усердно писал, не поднимая головы.
Конечно, рано. Пацан совсем, двадцать четыре. Но… трагически погиб Валейко, вообще почему-то мрут здесь главные механики. Три года тому умер Мещеряков… Должность уж больно вредная. Девять цехов, да еще котельная, компрессорная, энергохозяйство, оборудования почти тысяча единиц. Никто не соглашается лезть в это пекло.
— Василий Александрович, он у нас на заводе девятый год, и, вы знаете, старший брат и дядя у нас работают, мы эту семью хорошо знаем. А если что, мы назначим его временно исполняющим обязанности. Там посмотрим.
— Член партии?
— Да, Василий Александрович, — засуетился Красноперов, — он в армии вступил кандидатом, а здесь мы его в члены приняли. — Они разговаривали, точно меня не было в кабинете, точно вместо меня — пустое место. Наконец директор поднял голову, без всякого интереса посмотрел на нового главного механика, и в его глазах я увидел усталость очень пожилого человека, вынужденного заниматься этим нудным, надоевшим ему за многие-многие годы делом.
— Ну ладно, там у нас начальником бюро оборудования старый волк Астафьев работает, в случае чего поправит. Давай, иди работай.
Так я оказался в обойме руководителей завода. Директор приезжал на завод не каждый день и не рано утром, а около одиннадцати к проходной подъезжала его черная «Волга», и по заводу шелестом проносился слух: «Усатый приехал…» Исключение составляла среда — директорский день. В среду с утра, ровно в восемь, у заводоуправления кучкой собиралась свита, из подъехавшей «Волги» выходил директор, и начинался обход цехов по раз и навсегда отработанному маршруту: термический, кузнечный, второй механический и далее… Усатый постарел, уже носил черную кепку, но стрелки его брюк были по-прежнему безупречны, а полуботинки начищены до зеркального блеска. Я плелся вместе с другими в дурацкой процессии, ловя ухмылки рабочих, молча слушал муторные нравоучения Усатого, часами сидел, клюя носом, на диспетчерских совещаниях…
На заводе был сложившийся за многие годы коллектив специалистов и руководителей, мы были рады, когда Усатого не было на заводе, мы ругались друг с другом до хрипоты, но работали на совесть. Усатый был страшилкой, и когда главному диспетчеру Копенкину не удавалось справиться с кем-нибудь, он как последний довод заявлял: «Вот я директору на тебя доложу!» Почему мы побаивались или, как, например, начальник литейного цеха Лихоперский, — до дрожи боялись Усатого? Ведь он был незлобивым и даже добрым, как говорили заводские старики, когда-то близко знавшие его. Это был его завод. В далеком сорок первом Усатый, тогда еще начальник цеха, вместе с заводом был эвакуирован из украинского Ворошиловграда. В голой казахстанской степи устанавливал станки, делал снаряды для фронта, строил стены и кровли цехов. Рос вместе с заводом. Усатый был старше каждого из нас, он был окутан ореолом государственного человека. Так ученики в классе побаиваются строгого учителя. А может быть, потому, что в каждом из нас гнездился страх советского человека перед безжалостной и бездушной государственной машиной, олицетворением которой был наш директор?
Усатый казался вечным. Только через пять или шесть лет, в возрасте за семьдесят, его сменил главный инженер Павел (Файвуш) Иосифович Лурье. Я тогда уже не работал на этом заводе.
Усатый был красным директором. Он старался не вмешиваться постоянно в ход производства, хотя четко знал обо всех главных проблемах завода, работала служба личных директорских информаторов, и заводская машина успешно катила вперед. Мне рассказывали потом, что когда директором стал Лурье — опытный инженер, работяга, болевший за дело, заводские дела пошли почему-то хуже. Может быть, потому, что Лурье не так боялись, как Усатого? А может быть, потому, что закончились сталинские времена и в хрущевскую оттепель люди как-то расслабились?
АБРАМ ЛАЗАРЕВИЧ ШЕРМАН
1963 год. Было около одиннадцати, я, вконец раздрызганный после беготни по заводу, вернулся в свой тесный кабинет. Сегодня был совсем сволочной день. В ночную смену сломался мостовой кран на отгрузке, срезало болты на валу, дежурный слесарь не сумел починить — не было болтов (и почему,