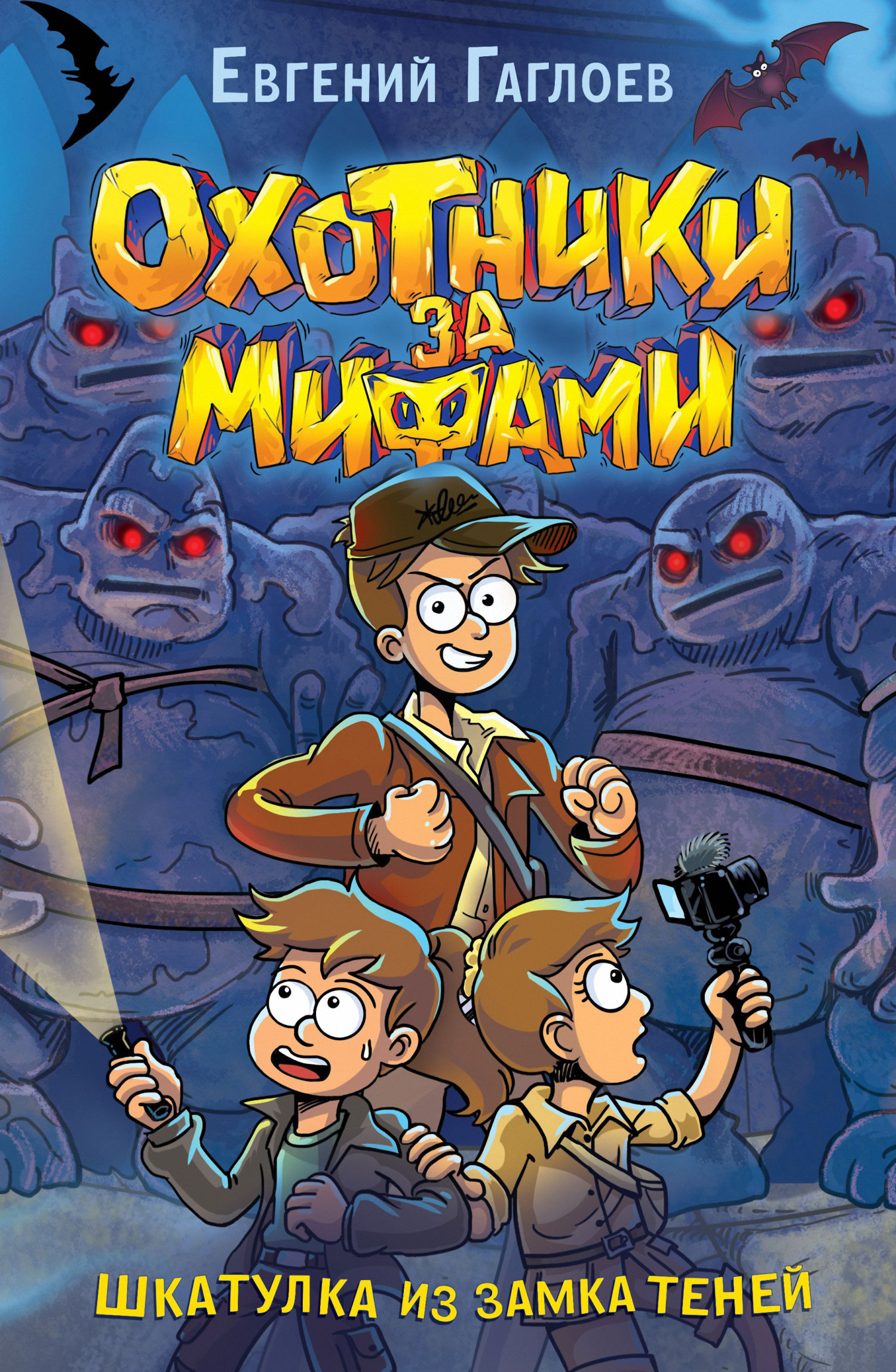Нет! – Настасья пыталась говорить твёрдо, но голос то и дело подводил её. – Я вег'ую. Во Всевышних и Единого, но…
– Плохо, значится, веруешь! Счастье твоё, что малая ишшо, в иной раз за такие речи и петлю можно примерить!
– Чт… нет. Нет, – Настя явно храбрилась. – В наше вг'емя… В наше вг'емя за такое уж точно… не казнят.
– В наше время, – скрипуче передразнила Анфиса. – Времена, девонька, они как ветер. Меняются.
Настя замолкла. Маришка также не находила, что сказать.
Служанка одарила их беглым взглядом хитрых маленьких глазок и произнесла:
– Не верить в неупокоённые души всё одно, что и во Всевышних не верить. И в Единого над ними Бога. Одного без другого и не бывает.
– А я в науку вег'ю! – вдруг выпалила Настя, и в тот же миг прижала дрожащие пальцы к губам.
Маришка уставилась на неё, чувствуя, как её челюсть непроизвольно ползёт вниз. Никогда никто не позволял себе заявлять о таком во всеуслышание. Не посторонним – за то могли так наказать…
«С ума сдвинулась…»
– Нау-ука? – протянула служанка. Улыбнулась нехорошо, совсем не по-доброму.
«Точно стукнет Якову…» – с тоской подумала Маришка.
– Да будет тебе известно, де-тонь-ка, что люд учён ровно настолько, насколько Всевышние ему это позволяют.
– Положим, что так, – дёрнула плечами Настя.
Но руки при том у неё дрожали крупно-прекрупно.
Служанка хмыкнула. Но больше говорить ничего не стала, лишь злобно прищурившись, таращилась неверной девице в лицо.
– Да что это с тобой? – прошептала Маришка, бросая подруге предостерегающий взгляд. Затем, выдавив самую невинную улыбку, на какую только и была способна, обратилась к Анфисе: – Вы не слушайте её. Она ведь, по правде-то, набожная, просто что-то…
– Не желаю больше выслушивать глупости. – Настя резко встала.
– И с чего это глупости? – разозлилась Маришка.
«Настя-дура, пороть же будут!» – хотелось ей крикнуть.
– Кто вчера мне о слухах твердил, а?
Подруга одарила её таким яростным взглядом, что Маришка подалась назад.
– Да верит она, – скрипнула Анфиса. – Как же не верить. Все мы верим. Она только страсть как боится. Хочет саму себя убедить, что всё в порядке. Ведь по нау-уке ничего такого и не бывает, а? А только как припрёт, сразу Всевышних звать будешь… Да ты глянь на неё. Как губы-то трясутся. Скажи мне, учёная, как это можно бояться того, во что не веришь?
– Да вы… – Настя не могла найти слов, открывала рот словно рыбёшка.
– Послушай… – встряла Маришка.
– Хватит! – Настя сжимала и разжимала кулаки. – Хватит, это не…
– Я своими глазами видела!
– Замолчи!
Настя выглядела так, будто готова вот-вот разреветься.
Маришка открыла было рот, чтобы закончить этот бесполезный спор и воззвать наконец к её разуму. Но подруга вдруг подскочила к двери и пулей вылетела в коридор.
– И чаго эт ты там видела, а? – донесся до Ковальчик насмешливый голос служанки.
Пустошь
– Знаешь, что стг'анно? – Настя, только что вернувшаяся с уборки, вытянулась на кровати.
Говорила она как ни в чем не бывало, будто и не было той нелепой сцены в служанкиной каморке.
– Мы вот всё тут моем-моем. А домопг'ислужники-то тогда зачем? – Сморщившись, она чесала тыльную сторону ладони. – Анфиска сидит себе и ни чег'та не делает. Г'аньше нам хоть помогали…
Сухой шуршащий звук – будто ногтями возят по древесной коре. Он заставил Маришку неприязненно посмотреть на подругу.
– Это все дегтяг'ное мыло! – с досадой произнесла та. – Никак не возьму в толк, почему только у меня после него такое с г'уками?
Маришка пожала плечами и вернулась к своим дневниковым записям. Разговаривать с подругой ей не хотелось. Настя так упиралась в желании не замечать ничего, что выбивалось бы из привычной ей картины мира, что Маришка не находила в себе сил на беззаботную болтовню с ней.
Но та продолжалась.
– Александг' с Володей, кажется, в полном пог'ядке. На лестнице они облили Ваг'ваг'у гг'язной водой. Так ей и надо, от нг'авоучений уже тошно было.
Маришка прикрыла глаза. Настя продолжала трещать, то ли не замечая, то ли не желая замечать, что соседка в беседе совсем не участвует.
От голода у Маришки сводило живот. Она сглатывала слюну, пытаясь сосредоточиться на дневнике. Записывала лишь самое нужное – краткий пересказ минувшей ночи в рубленых предложениях с тщательно расставленными знаками препинания.
Вести дневниковые записи их приучила Анна Леопольдовна – выписанная из столицы учительница грамматики. Она была институтка, едва закончившая заведение для благородных девиц и отправленная на практику. Продержалась с полгода, затем её, по одним слухам, пригласили замуж, а по другим – попросили на выход из-за нехватки денег в приюте. Маришке, как и многим, она нравилась. Была мягкой и улыбчивой – совсем не соответствовала остальному воспитательско-преподавательскому обществу. Анна Леопольдовна говорила, что у языка есть история. Что каждая запись, сделанная на нём, была доказательством самого его изменчивого существования.
– Как? Вы совсем не ведёте дневников? Но это же самое что ни на есть живое доказательство того, что вы есть! Что есть язык, на котором вы говорите, – учила она. – Что у вас было прошлое. Что вы были. Вы и ваш язык.
Хоть слухи о причинах её ухода и были разные, но то, что Анна Леопольдовна не прижилась в приюте, являлось скорее фактом. Она не признавала грубости и излишней жестокости. Никогда не ходила на прилюдные порки и даже позволяла себе спорить с Яковом Николаевичем о методах воспитания. Так или иначе она ушла. А дневники, что призывала приютских вести, хранились с тех пор под матрасами у многих – от малышей, едва обученных держать карандаш, до выпускников.
– Понюхаешь?
Маришка не сразу заметила, что Настя протягивает ей платок с табачными крошками. В тот же миг ей сделалось стыдно. Ведь она уже успела отсыпать немного себе из тайных запасов подружки.
– М-м, нет, – Маришка закрыла дневник и убрала его в саквояж.
– Ну ладно, – Настя улыбнулась. – А не хочешь пг'огуляться? На улицу, там так свежо… Мы тихонечко пойдём. Или нога никак?
Ковальчик задумалась.
– Не знаю. Можно попробовать. Я бы хотела осмотреться.
– И тебе нужен воздух, – кивнула подруга. – Здесь совсем душно, а ты такая бледная.
«Едва ли это от духоты», – подумала Маришка, спуская ноги с кровати.
Уже опускались сумерки. Небо над головой наливалось свинцом.
Во дворе усадьбы никого не было. От главных дверей и до чугунного забора, расколотого высокими витыми воротами, шла узкая гравийная дорожка. Приютские впервые ступили на неё только вчера, а Маришке казалось, что прошло уже не меньше недели. Больше вокруг не было ничего, кроме разве что