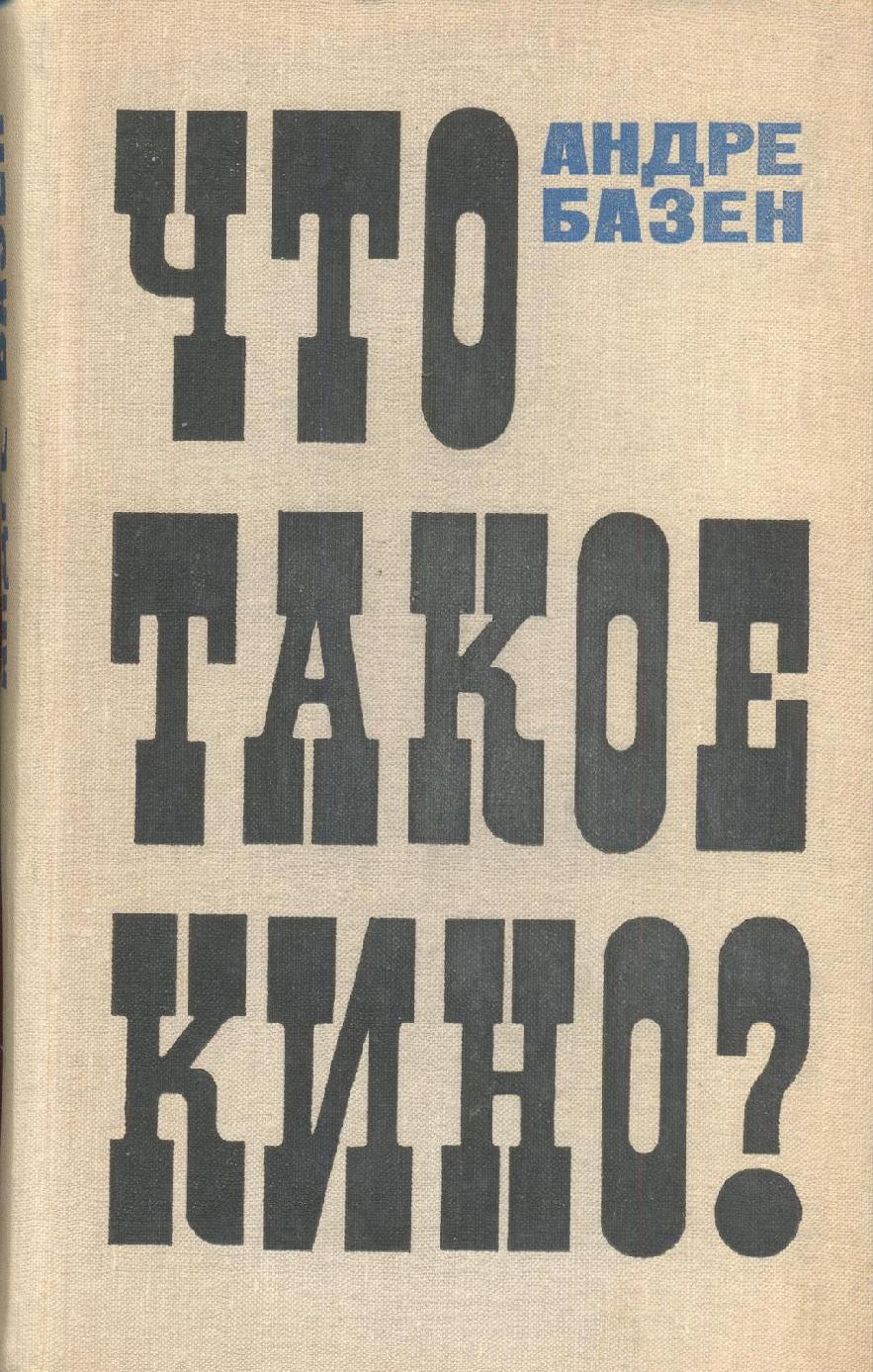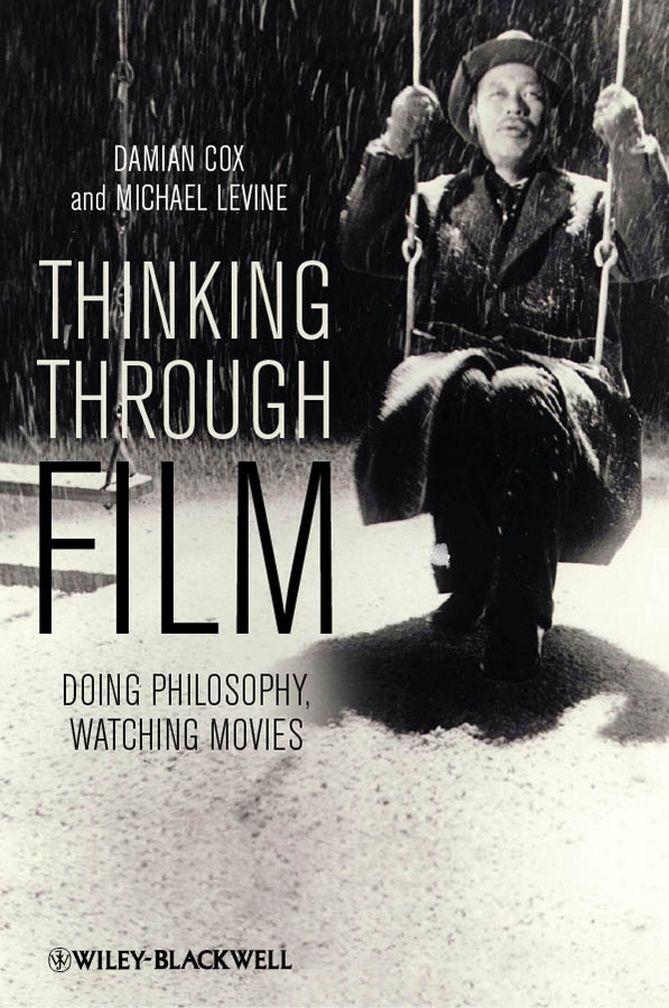хлопает себя в ужасе по карманам, но и хватается в священном трепете за сердце. Для него полицейский кордон – это граница жизни, за которой начинается тайна, удивительное приключение, романтика.
В последние годы кинематограф от этой сыскной романтики отошел. Мы стали свидетелями грабежей иного масштаба, о которых дюжинному воришке и не мечталось. Директор банка в воображении людей сделался фигурой сановитой и недосягаемой. Естественно, что рядом с королем фондового рынка взломщик кассы смотрится заурядно и бледно. Как произведение искусства фильм от этого нового уклона в сторону великих финансовых авантюр только проиграл: схватка между воришкой и детективом была видимая, предлагала неисчерпаемое море фантастических ситуаций, приправленных, сообразно обстоятельствам, различными психологическими и лирическими нюансами.
Совсем другое с крупным капиталом, чья сущность абстрактна, и борьба между главными силами (а вслед за тем – их столкновение), которая ведется внутри него, скрыта от наших глаз. Какие бы отчаянные и удивительные приключения ни переживал финансист, его действия неизменно сводятся к мысли, к решению, к беседе с гарантом, в лучшем случае – к выступлению в совете директоров. Даже в решающей сцене, когда под договором или в конце письма уже ставится подпись, нет ничего эффектного, ни капли драматизма, указывающего на чрезвычайную важность момента.
Подобное отсутствие прозрачности в жизни настораживает. В фильме ничего такого нет, там всё наглядно. Запечатлеть на пленке невидимое нельзя.
В кинематографе миру развитого капитализма оказывается особое предпочтение уже из-за одной декоративности. Изысканные платья и изысканная обстановка – залог изысканной картинки. Вот только жизнь представителей этой среды не обладает той степенью драматизма, какая требуется для кино. Их салоны радуют глаз, но их поступки мелки и бессодержательны. Публика, утверждают продюсеры, особенно та, что победнее, дотошна до роскоши. Возможно, так оно и есть. Но далеко не всё, что возбуждает интерес в реальности, захватывающе смотрится на экране.
Впрочем, шик и богатство в фильмах про капиталистов получили помимо декоративного еще другое, более глубокое значение, то же относится и к пышному убранству исторических кинокартин. Всё дело в природе чистой визуальности. Кинематограф возвел декоративное в символ человеческих ценностей, превратив внешнее в критерий внутреннего, вместо того чтобы придать внутреннему различимые и значимые формы, как и пристало настоящему искусству.
Идиллия в капиталистических фильмах – уже не просто источник чарующей силы, теперь она призвана играть и другую, куда более видную роль. Особенно у американцев этот идиллистический уклон столь глубоко явен, что от него уже неприкрыто отдает сознательной пропагандой. И если в одно время бедняков и отверженных пытались утешить обещаниями счастья, какое ждало их в потустороннем мире, то нынче их потчуют фантазиями о тихой, идиллической жизни в лоне семьи, надеясь отвлечь их внимание от царящей вокруг несправедливости и осушить слезы отчаяния.
Развитие искусства закономерно привело к тому, что детективный фильм оказался вытеснен. Аляповатый и в психологическом отношении примитивный – он работал с общими типажами, как с шахматными фигурами. Богач, преступник и детектив – состав неизменно один и тот же. И сколь бы сильно ни отличались приключения героев (как в шахматных партиях, где при одинаковом наборе фигур всякий раз новый расклад), сколь бы захватывающей ни представлялась их игра, пусть даже в самых неожиданных комбинациях, характеры персонажей оставались хронически скучны. Детектив только гонялся за преступником, даже не пытаясь вникнуть в его поведение и доискаться мотивов проступка. Им двигало желание поймать, но не понять.
Несмотря на примитивность и отсутствие психологии, детективные фильмы обладали строго выверенной композицией, которая сообщала им внутреннюю прочность и эстетизм и этим отличала от других, более возвышенных искусств. Не в содержании, а в форме и ритме выразилось их принципиально новое отношение к жизни. И этому явно способствовала присущая им аналитичность, ведь фильмы детективного жанра – при удачной композиции – всегда начинались с конца, иначе говоря, с преступления, и детектив, распутывая его загадочный клубок в обратном порядке, последовательно, шаг за шагом возвращал нас к исходной точке истории. Несмотря на замысловатую фабулу, конечная цель всегда задавалась изначально. Этот мир, возможно, сплошь состоял из проблем, но проблематичным при этом не был: часто мы просто не знали, какой в том или ином явлении смысл, но мы знали, что он есть – единственно верный, ясный и не подлежащий сомнению. Всё сводилось к этому конечному пункту. Мир освещался из одной только точки. Прочные нити связывали каждый эпизод, каждый момент фильма с последней секундой последнего кадра. В этом мире нередко сбивались с пути, но еще никто никогда не терялся. Случалось, что приписывали значение какой-то вещи, но со временем она оказывалась бесполезной. Незамысловатая вселенная детектива исключала главный посыл современной, заточенной на индивидуализме литературы, суть которого в том, что вещи действительно меняются, обретают новые смыслы и важность или же их теряют. Аналитичность заключила детектив в жесткую, не предполагающую вариантов форму. Это было простейшее подобие мира, в котором жила вера.
Фильм, узнаваемый каждой своей жилкой, есть продукт развития капиталистической индустрии, которая породила процессы, обернувшиеся в заключение ее диалектической контроверзой (рабочее движение, к примеру). Как уже говорилось в первой главе, кинематограф знаменует собой поворот от концептуальной культуры к культуре визуальной. Корни его популярности в тех же пристрастиях людей, какие в последние годы определяли повсеместный спрос на пантомиму, танец и прочие зрелищные искусства. Именно здесь нашла выход болезненная тоска человека абстрактной и перенасыщенной интеллектом культуры – тоска по конкретной, непосредственно переживаемой реальности, которую не требуется предварительно процеживать через сито понятий и слов. Это та же тоска, которая побуждает современный язык поэзии – стихийный и неподвластный рациуму – отчаянно бороться за свое место.
Дематерилизация и абстрактность нашей культуры предопределены самой сутью капитализма. В первой главе мы говорили о смещении акцентов, которое повлекло за собой появление книгопечатного дела: от визуального – в область отвлеченных понятий. Однако искусство книгопечатания никогда не закрепило бы своих позиций, если бы общее развитие духа, происходившее на волне экономического роста, уже не было обращено в сторону абстракции. Этот процесс перехода, который Карл Маркс называет «овеществлением», печатное дело лишь ускорило. Реальная ценность вещей, а со временем и само их бытие, оказались вытеснены из человеческого сознания понятием рыночной стоимости. Такая духовная атмосфера стала благоприятной для триумфального взлета книжной культуры в последующих столетиях.
Капиталистическая культура чужда природе фильма, в котором (хоть тот и является ее порождением) воплотилась тоска человека по непосредственному, живому и конкретному переживанию. Однако кинематограф, несмотря на безоговорочную его популярность, не изменит культуру в одиночку, как не изменило ее книгопечатание. В этом противоречии – глубочайший корень ее всестороннего несовершенства. Кинематограф со всеми присущими