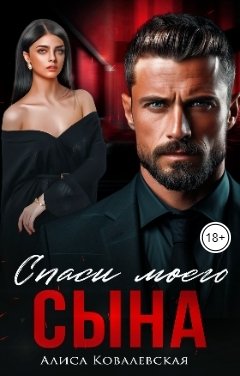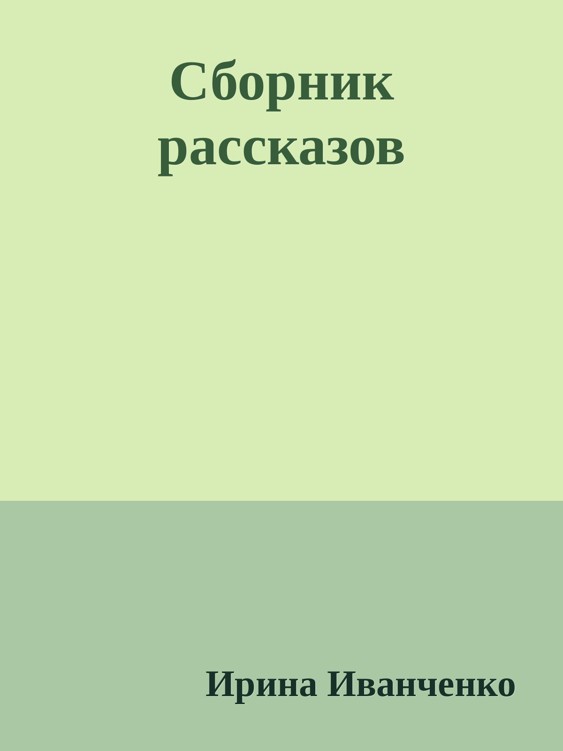описание Даниэля. У меня затряслись конечности, я не могла поверить, что это на самом деле со мной происходит, хотя, не скрою, мысль о том, что его местонахождение наконец определено, придала уверенности моим шагам. И хоть мои тяжелые ноги меня и не слушались, я все равно несла свое содрогающееся в спазмах и конвульсиях тело на встречу с определенностью. На опознание отправился Фран. Перед тем, как он зашел в морг, мы взялись за руки, так крепко, будто мы снова пара влюбленных, будто мы снова поддерживаем и опекаем друг друга. Затем наши пальцы разъединились в надежде сплестись вновь, когда мы будем оплакивать наше общее горе, но плакать не пришлось, потому что это был не Даниэль и горе было не наше, а чужое. Горе было не наше, и поэтому нам ничего не оставалось, кроме как и дальше сгорать от нетерпения в ожидании, когда мы уже разбежимся.
Это не Даниэль, сказал Фран. А кто же тогда?.. Мальчик, которого держали в подвале и насиловали на камеру, какое зверство, ответил он. (Дыши, дыши, дыши.) Может ли аутизм быть сексуальной фантазией, может ли он возбуждать? Надеюсь, что нет. Надежда еще есть, сказала женщина рядом с нами. Надежда на что?
Надежда на что?
Хоть нам и сказали, что аутизм – не инвалидность, а просто особый способ взаимодействия с миром, мне всегда казалось, что мы – посмешище для наших друзей. Долгое время я боялась, что Даниэль поведет себя как аутист и люди будут смотреть на нас с жалостью. Еще я боялась представить его взрослым: что из него вырастет, как он будет жить, когда нас не станет? Я никак не думала, что именно этот вопрос окажется главным, когда не станет его самого. Как он будет жить, если вдруг выживет? Ведь он же жив, правда?
Не страшно встретиться лицом к лицу с отцом, спросила я у Нагоре за несколько дней до ее отъезда. Почему мне должно быть страшно, не убьет же он меня, ответила она. Я пожала плечами. Пусть он меня боится, сказала она. Я никогда не встречала такой смелой женщины. Казалось, еще немного – и я ее полюблю.
Что происходит с делами без вести пропавших? Со временем нераскрытые дела отправляют в архив. Там их копится так много – прибавить сюда еще количество смертей, – что из бумаг они превращаются в бумажки; истории живых людей становятся целлюлозой, которую потом в лучшем случае сдадут в макулатуру. Я узнала, что коробки с делами просто сжигают, а полицейские участки закрывают, потому что следователи только и могут, что приставать к матерям с вопросом «что вам известно?», ведь им самим неизвестно ничего. У нас никогда не было надежды, ибо есть вещи, которые знаешь наперед, – я сейчас говорю не про Даниэля, а про них. Им до нас нет дела – никому ни до кого нет дела, давайте уже признаем это раз и навсегда. Это правило должен зарубить себе на носу каждый живущий: никому до тебя нет дела.
Я вижу белый гроб, белые цветы, слезы. Я представляю Даниэля и Амару. Я не заслужила Даниэля, поскольку хотела убить его еще в животе. Я не заслужила Даниэля, поскольку позволила ему родиться.
За день до нашего возвращения в Мехико Фран сказал, что любит меня. Я поведала ему о своих опасениях, но он всегда смотрел только в будущее, а потому ничего не смыслил в страхах и кошмарах. Дело сделано, пути назад нет, сказал он. Фран погладил меня по щеке и пообещал, что все будет хорошо, а я закрыла глаза и постаралась ему поверить. Потом мы прилетели в Мехико и стали разыгрывать семейную идиллию, в которой нам принадлежала роль идеальных родителей: причеши Нагоре вот так, покорми Даниэля вот тем. Не сдавайся несмотря на то, что Нагоре – сирота, которая, когда сердится, ругается по-каталонски; не опускай руки несмотря на то, что Даниэль – аутист и мы его совсем не понимаем. Спектакль с треском провалился, но свое поражение мы признали уже под занавес, что немного поздновато, на мой вкус. Лучше бы мы с Франом вообще не встречались.
Нагоре уговорила нас пойти на день рождения к ее подруге. Будет вечеринка у бассейна, сказала она. Мы с Франом не хотели идти, но разве ребенку откажешь? Одноклассница Нагоре праздновала с размахом: загородный дом в лесу, парковка, полная шикарных машин. Нам с Франом показалось странным, что такая девочка ходит в одну школу с Нагоре – они же очевидно друг другу не ровня. В любом случае нас если и допускали в такие круги, то не из-за денег, а из-за национальности Франа и Нагоре. Надо быть либо белым, либо богатым – третьего не дано. В общем, пока мы изучали дом, в котором отсутствовала мебель, но зато был бассейн, полный конфет и воздушных шаров, мы, к своему ужасу, поняли, что праздником руководит вовсе не мама девочки, а смуглый коренастый парень на службе у серьезного дяди. Фран не смог сдержать замешательства. Он дал Нагоре и Даниэлю немного поиграть, но вскоре мы ушли, потому что слепо верили, что от таких домов, как и от потенциальных связей с грязными деньгами, стоит держаться подальше, и даже намекнули Нагоре, что с этой девочкой лучше больше не дружить. Время отпечатало это избегание на наших лицах: зло, печаль, опасность, тревога преследуют повсюду – достаточно просто выйти в парк, и однажды, когда совсем не ждешь, у тебя заберут сына. И зло воплотится в тебе.
Как дым воспоминаний, Владимир выветрился из моей жизни, и, оглядываясь назад, я понимаю, что его регулярные звонки – ни что иное, как попытки меня утешить; но в водовороте событий этого нельзя было разглядеть – настолько все замутилось и запуталось. После того, что произошло, я не видела дальше собственного носа, и страсть сменилась раздражением. Владимир меня раздражал, потому что как можно испытывать любовь или желание, когда твоя жизнь теряет цвет? Как вернуться в точку, где два плюс два еще дает четыре? Как вожделеть то, что больше не вкусно? Владимир был таким нелепым объектом любви, что без слезне взглянешь. Я перестала упоминать его имя, перестала им интересоваться, и если бы я знала, как легко мне дастся это равнодушие, пошла бы я в тот злосчастный парк? Исключить эту возможность – вот что позволит мне обрести покой, и под покоем я не имею в виду смерть, потому что как я могу умереть, пока Даниэль требует, чтобы я жила – на случай, если он вернется? И кто вернется, если не тот, кто