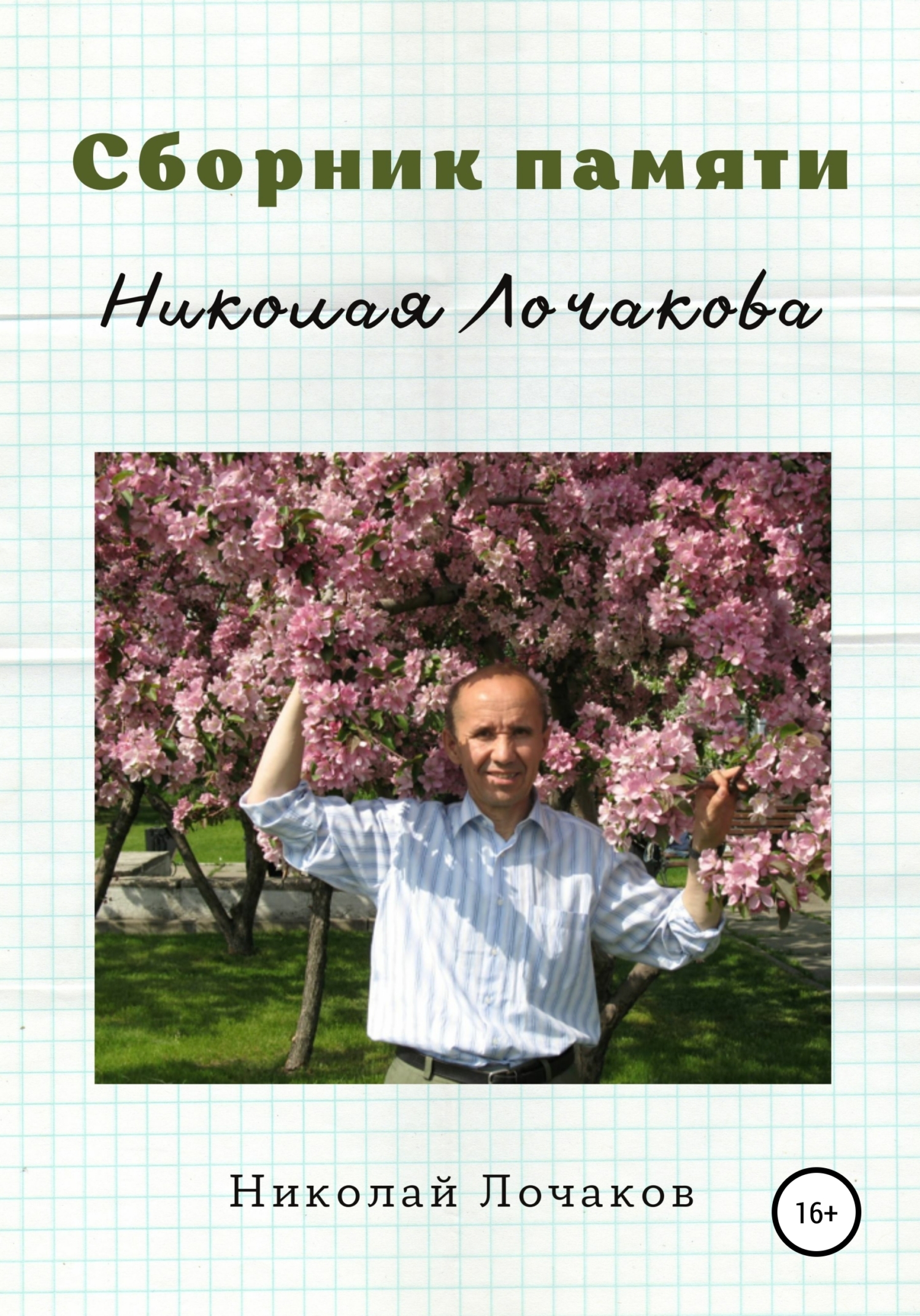и чужаков.
Но возвращаюсь к знаменательному дню, о котором начал говорить. Это было в 1945 году. Мосана уже почти восемь лет жила в своем мире. Да, верно, это было в 1945-м. Я хорошо это помню. Говорили, что война скоро кончится. Новости мы получали издалека, их приносил ветер. В тот самый знаменательный день я, как делал ежедневно в течение последних десяти лет, задал Мосане свой вопрос: «Почему он?» И услышал, что она пошевелилась, а потом почувствовал, что она тронула меня за руку. Я не был удивлен: накануне ночью, во сне, мне открылось, что она вернется. Бог послал мне знак. И Мосана действительно вернулась. Она решила вернуться в последний раз, чтобы ответить.
III
Ответ Мосаны ты услышишь позже, Марем Сига. Сейчас я хочу рассказать тебе о другом – о причине моей неприязни к тебе. Но эти две истории – по сути одна и та же. Когда я впервые положил руку на живот твоей матери, уже носившей тебя, в голове у меня сверкнула ослепительная вспышка. И в образовавшемся потоке света я увидел твое лицо между их лицами. Ты еще не родилась, но я уже знал, что ты будешь на их стороне. Они вернулись – перевоплотившись в тебя.
Я никогда не мог понять, кто из нас двоих был старшим. Моя мать говорила, что я вышел первым. Но, кажется, в нашей культуре из двух близнецов старшим считается тот, кто вышел из материнского чрева последним. В нашем детстве матушка Мбоил всегда рассказывала мне одну и ту же историю: «Усейну Кумах, твой брат пропустил тебя вперед, чтобы доставить тебе удовольствие, он повел себя как старший брат, который хочет побаловать меньшого. Асан Кумах появился на свет через девять минут после тебя, а это значит, что ты на девять минут моложе». Вот что говорила наша мать. Но я никогда не мог избавиться от ощущения, что Асан Кумах, мой брат-близнец, украл у меня больше, чем эти девять минут. Он отнял у меня возможность, отнял право существовать вне его тени.
Мы родились в 1888 году. Надо уточнить – хотя ты, наверное, это знаешь, – что я не был слепым от рождения. Первые двадцать лет жизни я видел. Но об этом позже. Итак, мы родились в 1888 году. Отца мы не знали. Он погиб на рыбалке, в пасти огромного крокодила – все свое детство я слышал легенду об этом чудовище. Наша мать, Мбоил, твоя бабушка, седьмой месяц носила нас с братом в своем чреве, когда отец по неизвестной причине в одиночку отправился рыбачить в самое опасное место на реке. Это была территория чудовища. Мбоил редко и мало рассказывала нам об отце. А в тех случаях, когда она все же говорила о нем, я удивлялся, чувствуя, что гибель мужа вызвала у нее облегчение, хоть она и пыталась это скрыть. Казалось, она даже благодарна гигантскому крокодилу, хозяину реки, за то, что он забрал нашего отца. От его тела ничего не осталось. А значит, не было и могилы, к которой мы могли бы приходить, по крайней мере, в первые годы нашей жизни.
В конце 1898 года, то есть когда нам было десять лет, группа охотников (среди них был и тот, кто меня воспитал) отправилась в трехдневную экспедицию на реку. Они собирались убить крокодила, который наводил ужас на всю округу и которого обвиняли во всех необъяснимых смертях и исчезновениях, даже когда несчастье случалось не на реке. Но людям нужен был козел отпущения, и им стал крокодил. После жестокой и кровавой схватки охотники расправились с чудовищем. Троих он успел убить и сожрать, еще двоих – покалечить (один лишился руки, другой ноги). Но зверь был уничтожен.
Смертельный удар ему нанес наш дядя Нгор, Токо Нгор, как мы его называли. Это он по закону левирата взял к себе вдову старшего брата с детьми и воспитал нас. Токо Нгор был очень близок с нашим отцом. Смерть последнего стала для него тяжким ударом: он сказал нам об этом, как только мы достигли возраста, когда ребенок способен понять такие вещи. Особенную боль ему причиняло сознание, что крокодил до сих пор жив. Десять лет в его душе не гасла ненависть к зверю, несколько раз он, рискуя жизнью, пытался убить его в одиночку. И наконец убил. Когда он вернулся с победой, отомстив за брата, я, десятилетний мальчик, почувствовал, что он изменился. Он был похож на больного, который выздоровел после долгих лет страданий. А еще я понял, что ошибался: все эти годы самым большим горем для Токо Нгора было не то, что крокодил все еще жив, а то, что у его брата нет могилы, над которой он мог бы его оплакать.
После успешной экспедиции охотники разделили между собой громадный остов чудовища (это был самец, на редкость крупный экземпляр длиной почти семь метров и весом в тонну). Одни хотели получить часть шкуры, другие – зубы или глаза, а кто-то – просто кусок мяса. А дяде Нгору нужны были внутренности. Он говорил: от тела моего брата не осталось ничего, но оно побывало в нутре этого зверя. Поэтому я возьму нутро. Он выпотрошил крокодила и закопал его внутренности не на кладбище (нельзя зарывать требуху крокодила в земле, где хоронят людей), а у подножия мангового дерева, растущего напротив кладбища. Под этим деревом много лет спустя поселилась Мосана. Она не знала этой истории, которую все успели забыть, а я не стал ей рассказывать. Но скажу тебе сразу, Марем Сига: когда я приходил к манговому дереву, я делал это не ради отца. Я его не знал. Я приходил туда только ради Мосаны. И все же я не забыл, что у подножия этого дерева была могила моего отца (его имя было Вали). Могила, куда Токо Нгор положил желудок крокодила, сожравшего отца.
Токо Нгор и моя мать воспитывали Асана и меня как двух принцев. Мы были любимы, но не любили друг друга. Я, во всяком случае, брата не любил. И, думаю, это было взаимно, что бы он там ни говорил. При свидетелях он вел себя как примерный старший брат, который защищает и любит младшего. И делал вид, будто мы с ним очень близки, что было неправдой. Но стоило нам остаться наедине, как он показывал свое истинное лицо: вел себя холодно и пренебрежительно, заговаривал со мной только для того, чтобы унизить меня или высмеять.
У нас не было ничего общего. Внешне мы почти не отличались друг от