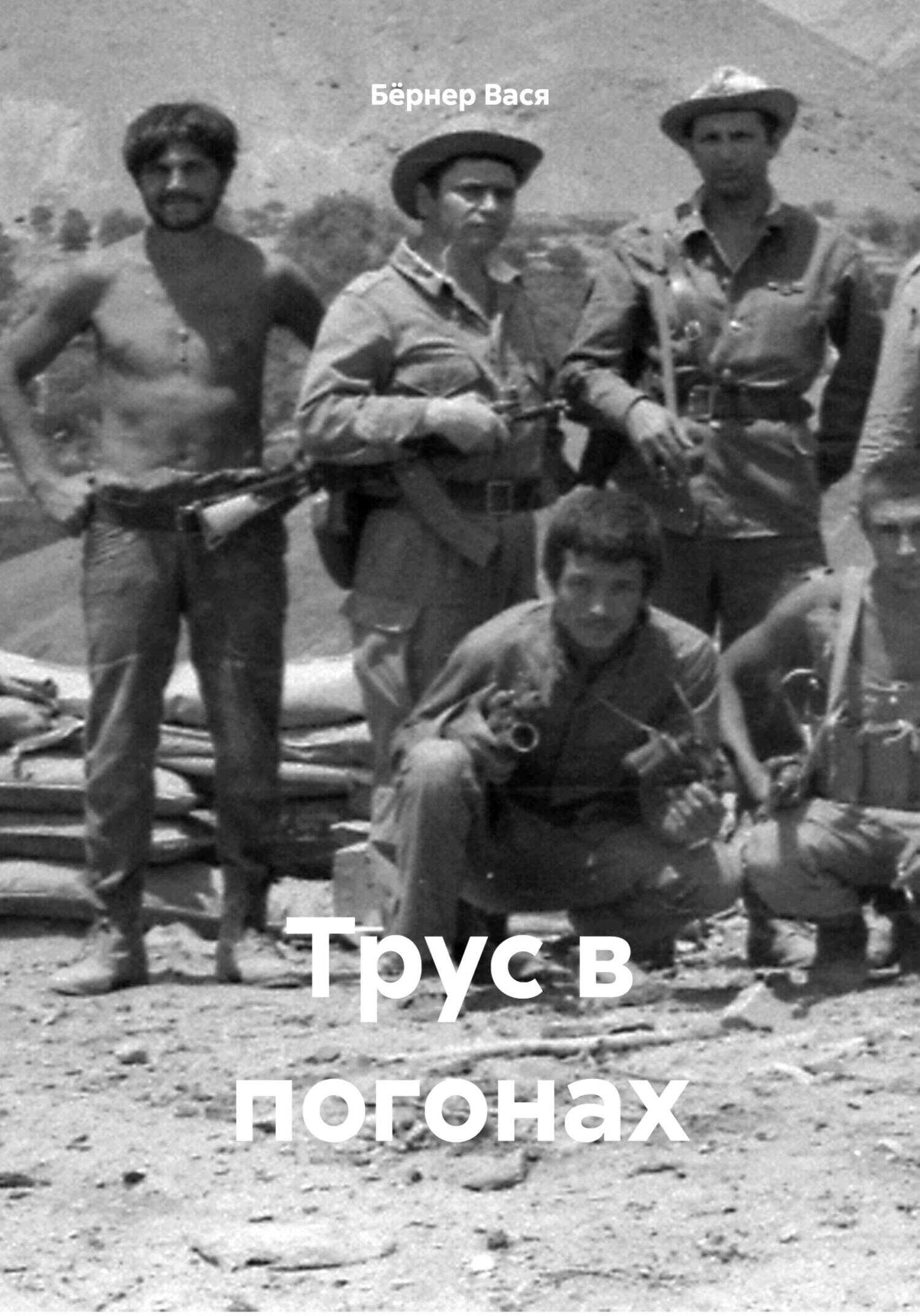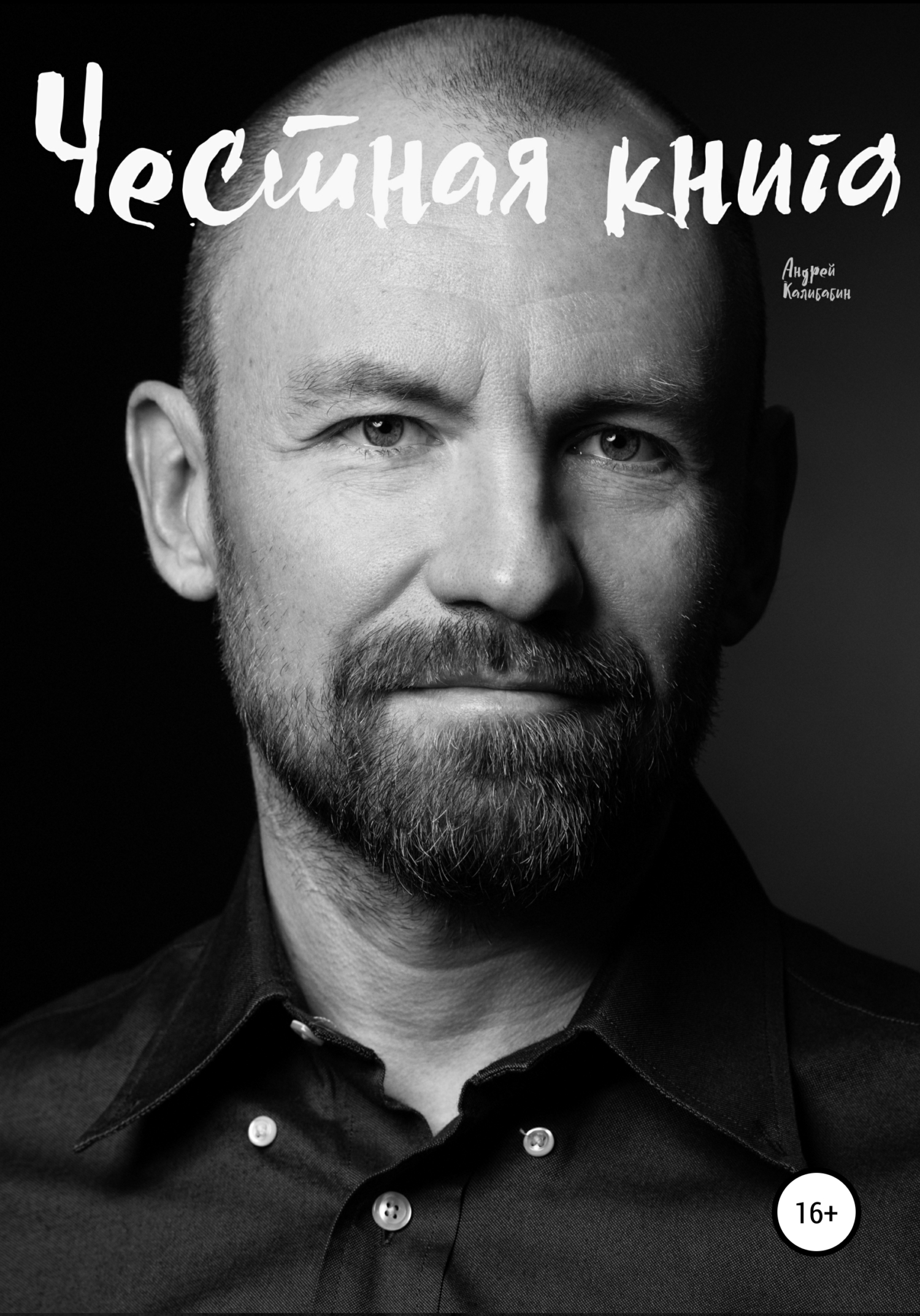увидел вдруг этот угол таким же отбитым! Он словно ждал его здесь, не меняясь, все эти годы. Семенов погладил рукой шершавую поверхность излома, с торчащими в нем соломинками, потому что саман всегда замешивают для крепости на соломе. Сломанный угол обтесался и сгладился — тоже постарел, — а возле копошилась новая жизнь: играли на голой земле чумазые казашата, — значит, и в этом доме изменилось содержание.
Семенов пошел далее по улице, лицом к Семиз-Бугу, к хате нужного ему человека — Федосея Василича Барило.
58
— Вот уже сколько лет прошло, а я их не забываю, моих бычков — Цоб и Цобэ! — пробормотал Семенов, будто разговаривал с ливнем, бушевавшим за стенками палатки.
Ему показалось, что и бычки его тоже где-то слышат — в этом апокалиптическом ливне, который вдруг смыл все разделявшие их теперь годы, — хотя бычки давно уже в колхозе на мясо пошли. Или на мыло…
И тут же снится ему, что плывет он с Лидой, качаясь в лодке, на волнах вечности и счастья. И опять он поет ей взахлеб о любви — как глухарь в весенней тайге… да и как ей не петь, такой красивой? «Самая красивая женщина в Советском Союзе!»
«Но счастье ли это — петь глухариные песни? А когда я ее рисую — разве это не счастье? — размышлял Семенов. — В чем подлинное счастье: когда я ее рисую или когда люблю? Нельзя ли это счастье в одно слить? Но тогда надо вместе с ней в Москву ехать, а это невозможно… Прав все-таки Гольдрей, хоть он и старый хрыч: все надо принести в жертву искусству…»
— Ну, рассказывай, рассказывай! — слышит Семенов нетерпеливый голос Лиды. — Чего замолчал-то?
59
— С бычками связаны были в те годы мой хлеб, мои мученья, мой смех. Хлеб — потому что они первые помогали мне его зарабатывать, мученья — потому что бычки были такими же неучами, как я, и постоянно допускали брак в работе, а смех — потому что над ними, как и надо мной, нельзя было порой не смеяться. Но это был смех сквозь слезы. Сквозь мои слезы. Ибо отвечать всегда приходилось мне.
Сначала я считал бычков дураками и даже злился на них. Только потом я понял, что они были даже очень умными. И умели хитрить! Хотя эта хитрость оказывалась наивной и беспомощной. Просто они не хотели ходить в ярме, не хотели ничего возить — ни бочку с водой, ни бричку, ни тащить волокушу. Я-то понимал, что должен свой хлеб зарабатывать, а они не понимали — почему должны были зарабатывать свою траву? Особенно летом, когда ее вокруг так много: ходи и ешь! Со своей телячьей беззаботной жизнью им никак не хотелось расставаться.
Бычки были совсем молоденькими. Когда я с ними познакомился, они были особенно тощими: позади осталась голодная зима с буранами и морозами. Бычки жили зимой на отгонной ферме, где получали скупой паек сена — в утренних и вечерних сумерках огромного хлева. Днем они подкармливались на зимних пастбищах, где им приходилось отрывать корм из-под снега копытцами: сухую, лишенную витаминов, прошлогоднюю траву. И это было, конечно, нелегко.
Один бычок был рыжим с черным зеркальцем — так называется тупой конец бычьей морды, между верхней губой и носом. Этого бычка звали Цоб. Другой бычок был рыжий с белым зеркальцем, его звали Цобэ. Прожили они недолго — вскоре замерзли в буране. Я стал работать на других. Но и другие быки звались все так же: Цоб и Цобэ. Я бы назвал эти имена коллективными, потому что их носят миллионы быков не только в Казахстане, но и в других республиках. И связаны эти имена с рабочим названием быков. В любой упряжке бык Цобэ всегда идет справа, и, когда его окликают, он должен убыстрить шаг и повернуть всю упряжку влево. Бык Цоб идет слева и, когда окликают его, убыстряет шаг и поворачивает вправо. Управление быками осуществляется без вожжей — быки идут в ярме, давя на него грудью: голос возчика да кнут — вот и все нехитрое управление этой системой, насчитывающей многовековую историю.
Бывает, что помимо Цоб и Цобэ имеют некоторые быки еще индивидуальные имена. Но мои бычки таких имен не имели. Индивидуальные имена имеют, как правило, частные быки, то есть быки отдельных колхозников. А мои бычки принадлежали колхозу — то есть сразу всем и никому. Сегодня с ними работал я, завтра кто-нибудь другой, а послезавтра еще кто-то.
Еще недавно — в стаде и на ферме, на попечении пастуха Семена — они были вообще безымянными. Кто дал им имена? Все тот же Барило! В один прекрасный майский день весь бригадный скот с утра пригнали к нему, как к некоему богу. Барило сидел верхом на лошади, с которой он никогда не слезал. Только дома или в конторе колхоза стоял он на собственных ногах или сидел на табуретке, скамье или кровати, хотя с удовольствием сидел бы и там на лошади. А в тот прекрасный день он сидел на лошади за деревней, на фоне Семиз-Бугу, — и смотрел на свое стадо, дымя цигаркой. Животные толпились перед ним — голов пятьдесят, — вдыхая жадными ноздрями влажный, еще пахнущий снегом весенний ветер и стреляя глазами по сторонам — норовя сорвать свежей зеленой травки. Пастух Семен кричал на них страшным голосом, хотя на самом деле был человеком добрым и ругался только для вида — пугал быков, и коров, чтобы не разбежались. Молоденькие бычки испуганно шарахались от него, мотали головами, по-детски взбрыкивали.
В стаде были еще взрослые быки, медлительные и спокойные. Они и не пытались никуда бежать — знали, что это бесполезно. Они важно пережевывали жвачку, подняв рога в небо, и на этих рогах кольцами навиты были годы неустанного труда — это были ветераны. Они уже давно знали, кто из них Цоб, а кто Цобэ, и ничему на этом свете не удивлялись. Давно таскали они по пашням плуги и бороны, месили ногами по кругу кизяк — казахское топливо из навоза, — сгребали волокушами сено: повидали на своем веку всяческое. Они даже видали на станции паровоз и вагоны и высокие — до неба — элеваторы, куда свозили пшеницу.
В стаде были еще коровы, с телятами и без телят, дойные коровы. Они, конечно, думали, что вот сейчас Барило отберет быков, а их опять отпустит в степь — нагуливать молоко и смотреть за телятами. Но не тут-то было! Барило и их потребовал сюда, чтобы разделить попарно, присвоить им имена Цоб и Цобэ и приписать к плугам и боронам — для весновспашки. Это было, конечно, диким решением, и у сурового Федосея