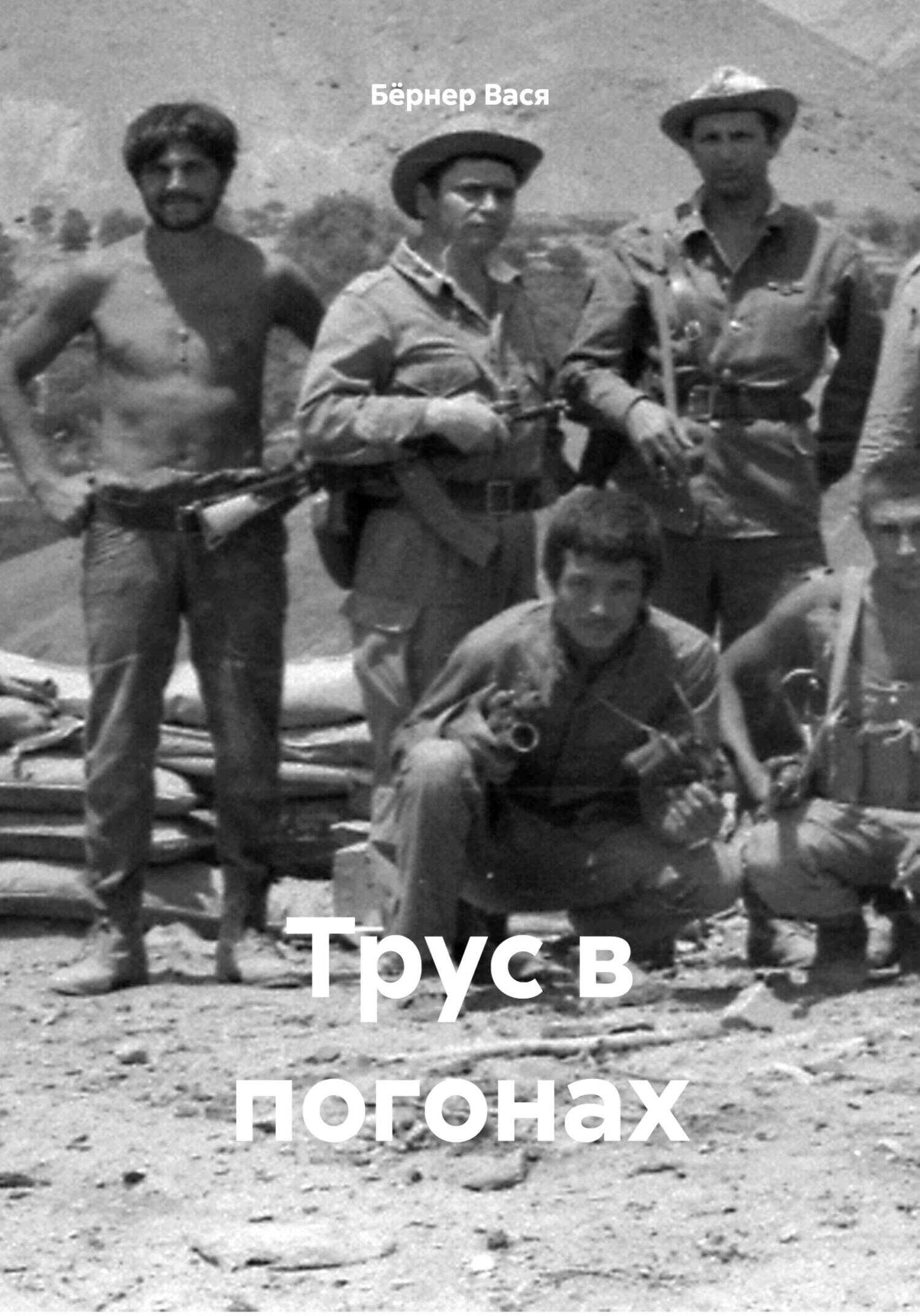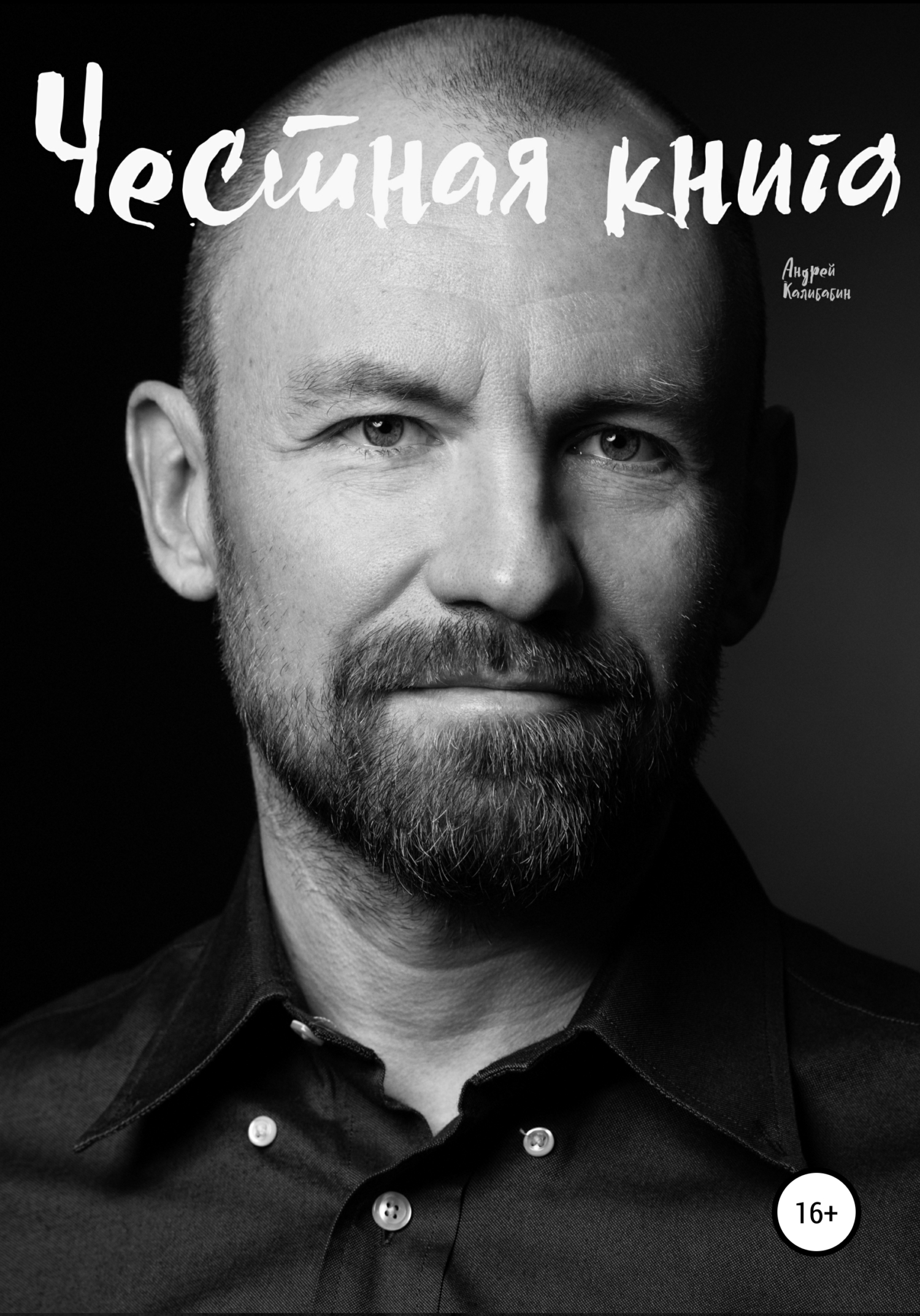чувствуя, как веселеет: сразу легче стало дышать и голова прошла — то ли от таблетки, то ли от грома…
И сразу опять полыхнуло — одновременно с громом, — и ветер снаружи рванулся как бешеный.
— Вот те и август, — громко сказал Семенов, — гроза какая! Не унесло бы палатку ветром…
Он тщательнее затянул входную полость, придавив ее изнутри этюдником.
Еще раз оглушительно полыхнуло — и сразу же обрушился на палатку всепобеждающий ливень, заглушив последние раскаты грома и его эхо в горах — и рев реки — и многошумный шелест деревьев, — заглушил, как видно, надолго своим бесконечным рыдающим, хлюпающим гудом…
— Ну, и спасибо! — удовлетворенно сказал Семенов, ложась на матрац. — Специально хлынул, чтобы помочь мне… теперь-то я давану крепко! — и сразу заснул.
57
Спустя тридцать лет приехал Семенов в тот же колхоз. Подвернулся такой случай — предложили в Союзе творческую командировку «для изучения жизни», — и Семенов подал заявление поехать в Среднюю Азию — и в тот колхоз под Семиз-Бугу, не указывая, конечно, что это его колхоз, написал только, как это полагается, что там ждут его «герои будущих картин», — и поехал, со смутным сердцем, изучать свою же собственную бывшую жизнь… Много воды утекло с тех пор, как он оттуда уехал, и много было у него по свету приключений, но все эти три десятка лет тянуло Семенова именно туда — к подножию Семиз-Бугу, хотя — казалось бы — что он там потерял? — ничего! — он давно вернулся на родину, давно стал известным художником, давно превратился из «Петьки» в «Петра Петровича», а его все тянуло назад, как-то грустно и бессмысленно, — и вот он идет наконец по знакомой улице и видит вдали — над глиняными крышами, над степью, над колеблющимся весенним воздухом — странно родную его сердцу Семиз-Бугу…
Удивительно устроено наше сердце! Оно привязывается даже к тем местам, где ему приходилось страдать. Более того: оно их идеализирует. И с годами маленький поселок под горою, не теряя печального смысла, становился для Семенова все более идиллическим: вспоминались роскошные степные весны и зимы, скачки, в которых он участвовал с казахами, белые гуси на зеленой траве, бродившие по деревне, сказочно гудящая на ветру крылатая мельница, белый домашний пшеничный хлеб, который бывал, казалось, вкуснее всяких городских тортов, и песни — целая симфония песен, которые пелись в бричках по дорогам и на полевых станах, — смешно, не правда ли? И постепенно в Семенове укреплялось желание: вернуться в эту степь, побродить по ней, проскакать верхом, отведать у костра украинского каравая и казахских лепешек, услышать старые украинские, немецкие и русские песни, вспомнить былое и — конечно же! — повидать, если остались в живых, друзей и недругов. Было в этом сокровенном желании и нечто от самооправдания: хотелось увидеть тех, от которых когда-то жалко зависел, снова увидеть их, уже будучи теперь независимым, пробившимся в люди. Хотелось этой своей независимостью восстановить былую попранную справедливость, отомстить за свое прошлое унижение, победить в этом беззвучном споре на расстоянии многих километров и многих лет. Вернуться — и победить! И освободиться. Казалось, если он там не побывает вновь — то так и останется где-то в недосягаемом измерении тем самым жалким, обовшивевшим, в костюме из мешков — Петькой… С такими сложными чувствами Семенов приехал ранней весной в эти болезненно дорогие ему места — и сразу рухнула выстроенная в мыслях идиллия!
Она рухнула потому, что деревня была та — и не та. Теперь здесь был не колхоз, а совхоз. Еще издали, подъезжая не в бричке, как раньше, а в автобусе, Семенов увидел, что в начале главной улицы, где — помнится ему — торчали из земли черные саманные крыши казахской стороны — так называемый аул, — стояли теперь побеленные здания механических мастерских широким полукругом, в середине которого дремали под открытым небом похожие на фантастических животных комбайны — целое стадо, — а рядом разбрелись по двору сенокосилки, плуги и прочая механизаторская мелочь. Мастерские появились у въезда в деревню слева, а справа выросло трехэтажное здание с надписью: «Больница». И это все поражало: и то, что он приехал в автобусе, и огромный парк сельхозмашин, и больница. Удивительно было еще видеть разбитую шинами и гусеницами землю — и на подбегавшей к поселку дороге, и на самой улице поселка, и даже между домами — из улицы в улицу — там уже не росла густо полынь и зеленая травка, и не было на ней белых гусей — вся земля была вытоптана ногами и выбита машинами. И бычьих, и лошадиных упряжек Семенов не увидел ни в момент въезда в деревню, ни потом, во все дни пребывания. Лошадей он встретил позже на пастбище — по-казахски «джайляу» — диких, вольных, прекрасных животных! Это были вовсе не те военные заморыши, с которыми он когда-то расстался. И полевые станы, встречавшиеся по пути на краю огромных фиолетово-черных массивов пашен, по которым ползали под весенними набухшими тучами гусеничные трактора с сеялками, — эти станы уже не были фанерными будками на колесах — каждый раз это было несколько домиков: мастерская, общежитие, столовая… чудеса, да и только!
И странное чувство разочарования обуяло Семенова. Он поймал себя на желании увидеть все таким же, каким оно было в те далекие годы, тридцать лет тому назад, понял, что ему хотелось войти в ту же старую обстановку новым человеком. Он и вошел новым — но в новую обстановку! Ни идиллических белых гусей на зеленой травке, ни тачанки с вороными в ярких лентах, ни медлительных скрипящих бричек с быками, ни белого домашнего хлеба: хлеб — подумать только! — продавался теперь в магазине. И он уже не был таким вкусным. Идиллическая деревня стала промышленным поселком, хотя здесь все так же пахали, и сеяли, и убирали хлеб. Так, да не так! Только мудрая Семиз-Бугу надо всем этим казалась все той же. Но и это только так казалось, и она стала другой: ее мудрость поблекла, она оказалась наивной, ложной, во взгляде горы уже не было страшной роковой силы… Да! — были еще старые дома и люди: но дома изменили содержание, а люди — которые остались, потому что многих Семенов не нашел, — постарели, поблекли, изменились. И изменилось их отношение к нему.
И вот к одному такому человеку он и шел сейчас по главной улице, угадывая взглядом знакомые строения. Вот школа, которую он когда-то разрисовывал, а вот клуб, где был заведующим, а потом лежал там в сыпном тифу. А вот маленькая глиняная хата над берегом реки Нуры, в которой Семенов квартировал одно время с двумя странными старушками и одним молодым греком…
Семенов искал глазами знаменательный угол хаты, который сшиб когда-то водовозным колесом… и