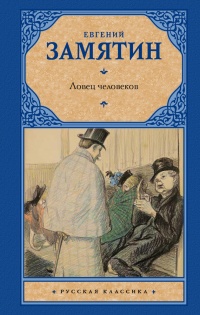от осени до осени — я принадлежал, как вещь, этому коротышке с нечистой кожей и гниловатыми зубами. Он был хозяином моей жизни и мог делать с ней все, что ни пожелал бы, кроме одного: он не имел права ее уничтожить. Я не подлежал выкупу в этом ломбарде, но имел некую залоговую стоимость — не больше стоимости швейной машинки. Если бы я издох у его сапог, меня бы просто списали, как списывали других, переслав домой в цинковом ящике.
Претензии дирекцией этого ломбарда не принимались.
Год — от осени до осени — он был моим хозяином, гнилозубый старший сержант, уроженец этого города.
Я разодрал пачку чая и сыпанул из нее в кипяток. Заварка рассыпалась; рука, державшая пачку, не слушалась меня. Не слушалось и сердце, колотившееся так, словно пыталось удрать отсюда вместе со всеми потрохами.
Я вытер о сиденье стула влажные ладони и аккуратно, стараясь успокоиться, растворил в чашке три куска сахара. Снимать заварочную горку не стал — чифирь так чифирь, тем лучше.
— Солдат, ты чем-то недоволен?
Пухлый червяк пальца пролезает под верхнюю пуговицу моей гимнастерки и сгибается стальным крючком. Крючок, душа меня, начинает поворачиваться.
— Не слышу ответа, солдат!
Крючок тянет меня вниз — проклятый запах его тела, меня тошнит от него — улитка уха возникает у моих пересохших губ.
— Не слышу ответа!
Резкий рывок, как рыбу из воды, вырывает меня из строя.
— Чем недоволен, солдат?
Я молчу. Я молчу уже давно, но этого мало. Надо еще что-то сделать с глазами, с лицом… Отработанный сержантский тычок — точно между пуговиц кулаком — вгоняет меня обратно, как ящик в ячейку, вырывает хрип из надорванной груди.
— Встаньте в строй, рядовой. Что это вы на ногах не держитесь…
Он говорил правду. На ногах я не держался. Шел третий месяц моего рабства, и меня, собственно, уже не было. Было — тело, пытавшееся выжить среди себе подобных и проваливавшееся в бесчувствие, едва зубчатая передача службы выбрасывала его на островок верхней койки. И только там, на самом донышке бесчувствия, за подкладкой сна, еще оставалось что-то от моего «я».
— Надо будет заняться с вами физподготовкой после отбоя, — говорит он, поигрывая связкой каптерных ключей на цепочке. — Ерохин — на месте, остальные — разойдись!
— Ну что, гавненыш, — говорит он, когда мы остаемся вдвоем, — ты еще не хочешь удавиться?
Чай подостыл, уже можно было отглотнуть его не обжигаясь. Сладкий горячий чай — что может быть лучше? Коротышка, с кровью выплевывающий свои гнилые зубы, — вот что лучше. Черная сталь, холодящая ладонь, — и скулящий от ужаса коротышка. Когда открываются в этом дерьмовом городе столы справок?
Я прихлебывал чай и ждал рассвета, но рассвета не было, и я лег и закрыл глаза, и тогда он вразвалочку вышел из своей каптерки, накручивая взад-вперед цепочку на сардельку указательного пальца. Он учуял мышь, незаменимую для показательной вивисекции, и вот впервые стоит перед нами, расставив крепенькие ноги и вентилируя цепочкой густой казарменный воздух, — надсмотрщик, принимающий новую партию товара — и моя усмешечка напарывается на пристальный взгляд голубых глаз. «Вам весело, товарищ рядовой?» — «Что вы, нисколько…» — «Что?» — «Нисколько, товарищ… простите, я не знаю вашего звания» — я действительно не различал тогда погон! — это простительная вещь, если вдуматься; коротышка не отличал Баха от Глинки, он даже не подозревал об их существовании — и никто не заставлял его чистить за это гальюн! «Простите, я не знаю вашего звания», — сказал я, и стоявшие рядом хохотнули.
Усмешка досужего путешественника еще лежала на моем лице, а внимательный прищур его голубых глаз уже примерял меня к пыточному колесу первого года службы.
…Я живу в сортире. Я пропах мочой, я скребу обломком бритвы проржавевшие писуары. Все, что было со мной до этого — Москва, любовь, черное крыло и белая кость «Бехштейна», — было уже не со мной. Я стою у измазанного калом подоконника с обломком бритвы в руке, которой не хватает силы полоснуть по венам. Я не выйду отсюда, пока он не признает сортир убранным, а он не сделает этого до глубокой ночи. Помочится в отдраенный мной писуар, буркнет: «На сегодня — все», — и, шаркая, пошлепает мимо замершего дневального к своей койке, а меня за час до подъема поднимет по его приказу дежурный, и, стуча зубами от озноба, я снова отправлюсь в сортир — так старая цирковая лошадь сама идет к опостылевшей тумбе. И будет еще один день, еще поворот на один градус скрипящего колеса службы, и через сколько-то таких слившихся воедино поворотов — я стою среди ночи, склонившись над раковиной, пытаясь отмыть терпкий, пропитавший меня насквозь запах, затылком чувствуя взгляд привалившегося к косяку коротышки — и угадываю его голос за мгновение до того, как он раздается.
— Ты чего, солдат, — говорит голос, — никак собрался отдыхать?
Отпаренные ноги в войлочных тапках, штрипки кальсон болтаются у пола.
— Так точно, — говорю я, пытаясь совладать с голосом, сквозь который рвется наружу пекло ненависти.
— Ни х… себе заявочки, — весело кидает он себе за спину, и там, гоготнув, обнаруживаются еще двое: сержант Глотов и кто-то из «дедов».
— Солдат, — неторопливо копая в дупле спичкой,