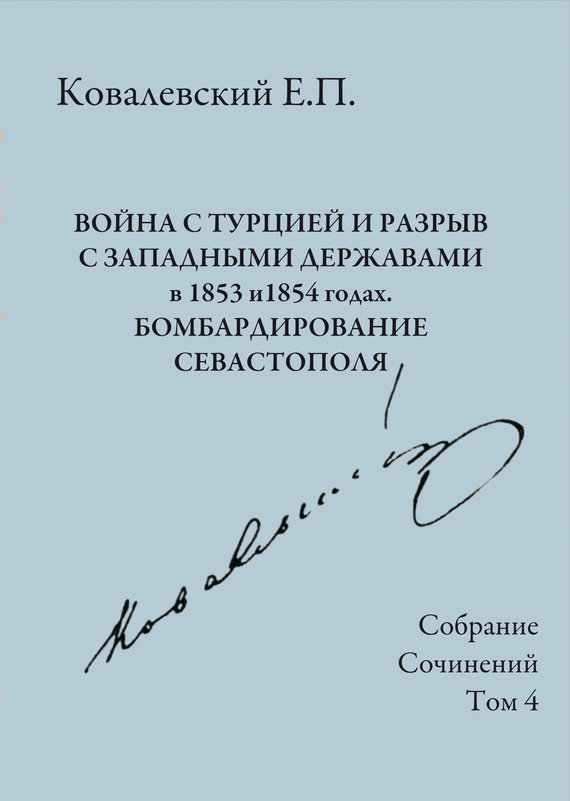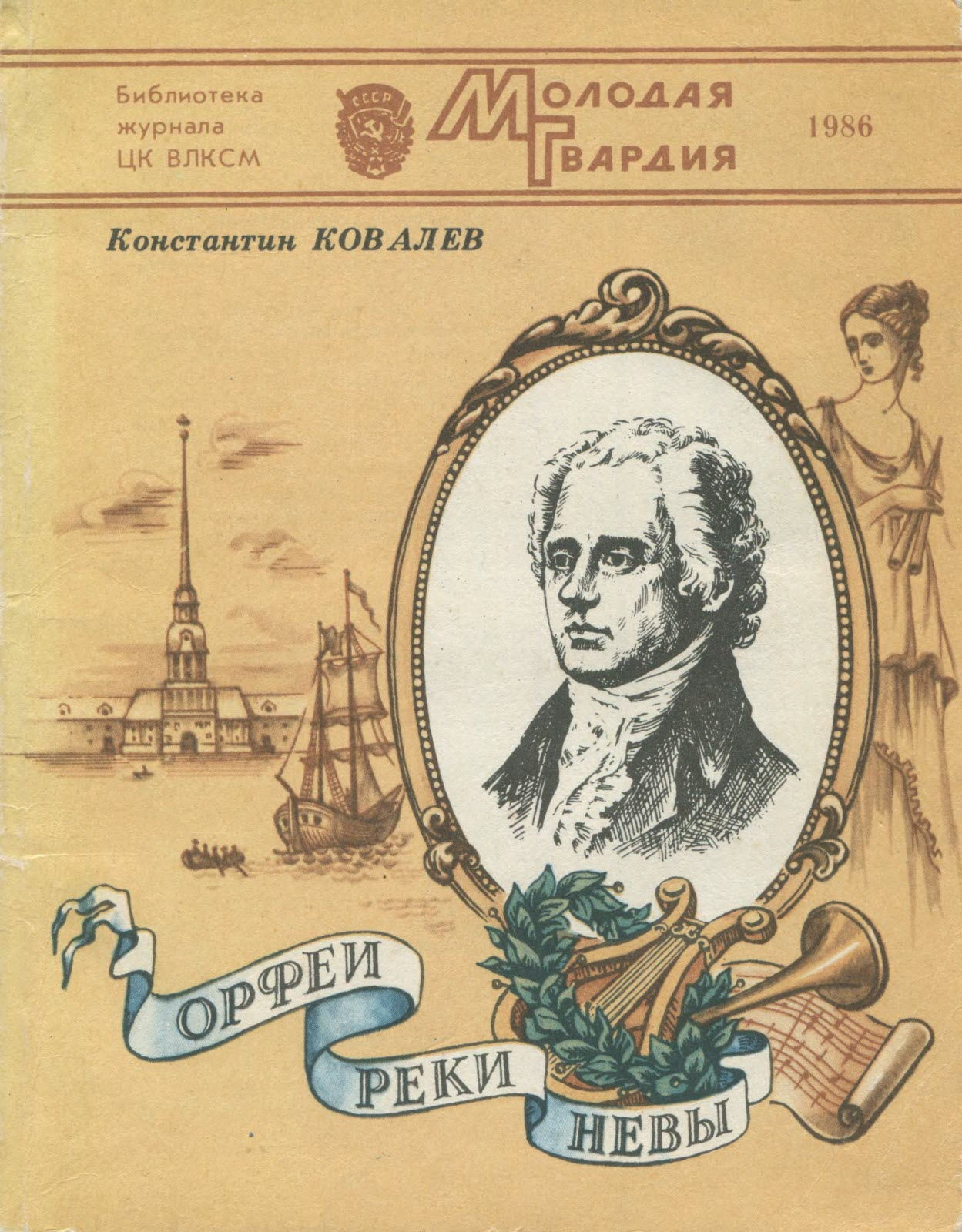в частном быту мы ничего не имеем общего с Косичкиным и Фигляриным, почему ни Пушкин, ни господин Булгарин не могут давать, даже под влиянием этого превосходного шампанского, заверения в том, что до них не касается. Mais tranchons là-dessus et qu’il n’en soit plus question[301], или я убегу. А вот что за причина, что Фаддей Венедиктович (кажется, так?) хотел от меня бежать? Я, кажется, не так страшен, особенно господину Булгарину; он, я думаю, не трусливого десятка, и про то, вероятно, хорошо ведают те различные знамена, под которыми он воевал. Напротив, я ничего не имею к Фаддею Венедиктовичу неприязненного; доказательством тому между прочим служит то, что я еще сегодня купил его портрет, очень, очень схожий, продаваемый – представьте себе, господа, – книгопродавцем Лисенковым за портрет Видока. Ох, уж эти мне спекуляторы книгопродавцы: страсть из всего извлекать какую бы то ни было выгодишку. Да еще я очень рад, что повстречал теперь Фаддея Венедиктовича: мне нужно некоторое пояснение; я для одного нового московского журнала принялся писать мемуары, в которых кое-какую роль будет играть Орест Михайлович Сомов, так хотелось бы знать подробности мнимого его арестования после 14 декабря и освобождения[302]. Все это, кажется, хорошо известно Фаддею Венедиктовичу?[303]
Заметив угрожавшие Булгарину опасности из начавшихся шутливо злобных заявлений Пушкина, Греч поспешил возвратить литературному Созию[304] своему его шапку и стал даже стараться о скорейшем его удалении, причем, чтоб половчее замять весь этот возникший скандал, принялся представлять Пушкину то того, то другого из числа бывших тут, преимущественно, молодых писателей. В том числе он представил и меня. Чрезвычайная моя юность, девственная свежесть и вообще тип мальчика-пансионера и только по покрою платья взрослого человека изумили Пушкина, и он спросил Греча: «Неужели этот мальчик сам написал ту бойкую анекдотическую биографию знаменитого табачного фабриканта Жукова, которая недавно была напечатана в вашей газете?»[305] Потом Греч повел Александра Сергеевича по всем комнатам, чтоб показать ему свой дом и свое семейство. Среди всего этого Булгарин уехал, а Сенковский остался и в отсутствие Пушкина беседовал с Кукольником, который говорил ему, что Пушкин не любит его, Кукольника[306], будто за успех его новой драмы «Рука Всевышнего»[307] и что молва Пушкину приписывает известное четверостишие, ходившее в ту пору по рукам.
– Какое четверостишие? – спросил с лукавою улыбкою Сенковский, словно ничего не знавший об этих стишках.
– Да то, которое теперь у всего города на языке, – сказал с неохотою Кукольник.
– Я, видно, не принадлежу к городу, потому что не знаю этих стихов, – настаивал Сенковский. – Скажите-ка их, Нестор Васильевич!
Волею-неволею угловатый Кукольник должен был прочесть эти стихи, действительно летавшие тогда по всему городу. И он вполголоса пробормотал:
Рука Всевышнего три чуда сотворила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого задушила![308]
Когда Пушкин с Гречем возвратились в зал-кабинет, явилось снова шампанское, и опять Греч с Пушкиным чокался, и Пушкин, чокнувшись с Сенковским, сказал ему вполголоса по-французски (Пушкин, по роду своего воспитания, часто и охотно употреблял французский язык в разговоре даже с соотечественниками) несколько слов, и они удалились в один уголок за плющевым трельяжем для интимного разговора.
Пока Пушкин и Сенковский беседовали в уголке, Греч, которого не только страсть, а какая-то словно болезнь беспрестанно дергала острить на счет всех и всякого, подмигивая тем, которые около него сидели и стояли, сказал:
– Плохо, плохо приходится карману почтеннейшего Александра Филипповича (т. е. Смирдина), этого нашего российского Ладвока! – Потом, предаваясь расположению говорить о себе, он не вытерпел и сказал:
– А нельзя отнять и от Пушкина большого эпиграмматического дарования. Да вот хоть бы на днях. Это было на новоселье Смирдина[309]. Обед был на славу: Смирдин, знаете, ничего в этом не смыслит; я, разумеется, велел ему отсчитать в обеденный бюджет необходимую сумму и вошел в сношение с любезнейшим Дюмэ[310]. Само собою разумеется, обед вышел на славу, прелесть! Нам с Булгариным привелось сидеть так, что между нами сидел цензор Василий Николаевич Семенов, старый лицеист, почти однокашник Александра Сергеевича. Пушкин на этот раз был как-то особенно в ударе, болтал без умолку, острил преловко и хохотал до упаду. Вдруг, заметив, что Семенов сидит между нами двумя – журналистами, которые, правду сказать, за то, что не дают никому спуска, слывут в публике за разбойников[311], крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семенову: «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе»[312]. Слова эти тотчас были всеми поняты, я хохотал, разумеется, громче всех, аплодировал и посылал летучие поцелуи Пушкину, который кричал мне: «Вы, Николай Иванович, не сердитесь?..» Я отвечал ему громко: «Я был бы непростительно глуп, ежели бы сердился за эту милую шутку, которая нашему брату журналисту вовсе и не обидна, потому что нам то и дело, что приходится разбойничать по общим понятиям публики, то есть лаяться, острить, отбиваться, нападать, даже хищничать. Я понимаю значение журналиста и никогда эпитетом разбойника не обижусь». Я старался обо всем этом говорить как можно больше, чтоб успокоить Булгарина, который пришел в совершенное нравственное расстройство и задыхался от бешенства. Шутка шутке рознь, – продолжал Греч, – и на иную глупую выходку иначе как грубостью отвечать нельзя. Да вот хоть вчера. Обедаю я у генерала Ваценко, бывшего директора канцелярии военного министра. Все, по случаю именин хозяина, были в парадных костюмах и в орденах, а я один в моем синем фраке, даже без Владимира в петлице. Тостов пилось немало, у всех маленько шумело в голове, и вот вдруг ни с того ни с сего знаменитый некогда генерал-вагенмейстер[313] Афанасий Данилович Соломко, хитрый хохол, но далеко не человек ума, обратясь ко мне, при всем обществе, сказал со своим хохлацким акцентом: «Как же это вам не стыдно, Николай Иванович? Все мы здесь в приличном одеянии и в знаках отличия, а вы один словно как сапожник!» – «Да, да, я ваш сапожник, ваше превосходительство, – возразил я, смеясь, – и как сапожник всем вам головы чиню»[314]. Большая часть общества поняла, в чем дело, убедясь, что со мной шути, да оглядывайся, потому что я по пословице: еду, еду – не свищу, а наеду – не спущу. А вот сегодня в Английском клубе какой-то псковский помещик, которого его соотечественники прозвали лордом за его барскую жизнь на иностранный лад, срезал меня престранною