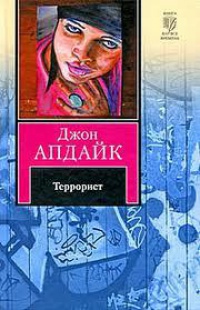к отпуску… И больницы, видно, не миновать, и огласки…»
Так глупо попасть в такой переплет! А что Скажут Максим и Настя? От боли, стыда и бессилия он клял себя, тайгу и косулю. Но тут в его душе шевельнулась жалость к подстреленному животному. Вот она ушла подранком, она страдает так же от боли, как и он, так не кощунство ли это проклинать беззащитную тварь, которую ты сам подверг страданию? «Это твое преступление и твое наказание», — суеверно думал он.
Где скользя, где делая скачки, с короткими передышками он приближался к манящему, синеватому дымку своего костра. Чтобы как-то заглушить дергающую боль в колене, он старался думать о чем-нибудь постороннем, но только не о том, что его ждет… Но это почти не помогало. Однажды вспыхнула в нем такая отрадная мысль: «Был бы у меня настоящий друг, искренний, добрый… как, как Уля, и все наверняка бы сложилось иначе, вся жизнь моя пошла бы по-другому…»
Нет, ему жаль прошлого, жаль своей разбазаренной талантливости. Чего уж там наводить тень на плетень! И друзья у него были, но он легко терял их, зато быстро находил сообщников… Почему он уверовал в такую бредь: ищи золотую середину. И когда это случилось? Не сразу же после армии, не на стройке. Значит, позже. Теперь точно и не вспомнишь.
Когда он наконец дотащился до потухшего костра, силы его покинули мгновенно и он повалился в снег, на левый бок, боясь задеть ногой-калекой за сук гниловато-сухой, вывороченной с корнями лиственницы.
Лежал он долго; пот высох на спине, его начало познабливать. Он зашевелился, кое-как сел, прислонился к дереву и закурил, обдумывая свое положение. Надо добираться до поселка, пока…
И он вдруг с лихорадочной поспешностью, преодолевая боль, накинул лямки рюкзака на плечи, ружье — за спину и схватился за лыжные палки, встал.
Натруженная левая нога казалась чугунной. «Унты мои тяжеловаты, но они меня и спасают, — подумал Чадин. — Так же, как меховые рукавицы и куртка. Добротные вещи — великое дело. Особенно здесь, в этом царстве мороза».
С трудом ом затянул крепления на левой лыже, потом кое-как приспособил и правую, чтобы ногу как бы «везти» на лыже, перенеся всю тяжесть тела на левую и отталкиваясь прочными металлическими палками с ремешками для запястьев.
Первые метры пути оказались мучительными. Он весь взмок, хотелось упасть, но он часто отдыхал, стоя на одной ноге и повиснув на палках, как на костылях. Но все же он двигался. Он знал, что дойдет, как бы то ни было, но когда? Если он задержится — всполошатся Настя и Максим, его начнут искать, лишние кривотолки… Этого он больше всего почему-то опасался. Еще он побаивался, что его оштрафуют, а то и заметку тиснут в газету насчет браконьерства. Он боялся — хотя и гнал эту дурную думку прочь, — что с ногой у него может оказаться все гораздо хуже, чем он предполагает, и тогда… Что же тогда?
— Колченогий будешь, — сказал он вполголоса, наваливаясь на палки и снимая рукавицы, чтобы размять судорожно сведенные от напряжения пальцы.
Ремешки резали запястья, и если бы не толстый мех рукавиц — хоть пропадай. Спасибо Шуре, это она их приобрела на «барахолке». Он ощутил прилив нежности к своей жене. «Она моя спасительница и моя губительница… Но почему я стал такой нехороший с нею, а она такая нелюбящая бывает со мной?»
Он задумался, глядя вниз, на голубые, поцарапанные носки лыж. Когда он стоял так неподвижно — боль как будто отпускала. «Вот именно — почему?» — думал он. У них нет детей — связующего звена. Это так, но и это не причина. Она с неразумной страстью занялась куплей-продажей. Она приобретает, сбывает, меняет… Это-то в ней и отталкивает. Ему непонятны эти ее никчемные цели. Где ее простота и непритязательность? И вот — размолвки…»
Он поглядел на солнце: оно уже клонилось на западе к сопкам, а он едва минул то место, где в первый свой «турпоход» видел злосчастную козочку. Чадин поспешно надел рукавицы и схватился за палки.
Через несколько минут он снова остановился, весь взопревший; жидкие мокрые волосы на висках выбились из-под шапки и смерзлись тонкими сосульками; он дышал как загнанный конь, и колюче-студеный воздух раздирал его легкие.
Он отдыхал с закрытыми глазами, опустив голову и упираясь палками под мышки; а когда разомкнул веки и приподнял голову и мутным взглядом окинул склоны ущелья, поросшие кедром и пихтой, казавшиеся багрово-розоватыми в предвечернем солнце, к нему подкрался смутный страх. «А ты захнычь — это поможет», — издевательски сказал он себе и напряг все силы — двинулся, отталкиваясь палками и «везя» подвернутую ногу на лыже; боль иногда становилась невыносимой, и Чадину казалось — вот-вот сделается плохо ему и он рухнет в снег.
«И настанет твой судный день, — вспомнилось ему то ли вычитанное где-то, то ли слышанное. — Чушь, библейская ересь! Меня будут судить Максим и Настя… А что, неправда?»
Но сколько же еще осталось… Он вдруг точно споткнулся на выемке и чуть не упал, глядя во все глаза на знакомое место: здесь он рвал калину! Он обрадовался этому голому кусту с кое-где оставшимися ярко-красными ягодами, как чему-то самому желанному и родному. Возбужденный, он начал быстро высчитывать. Отсюда, примерно, не более часа ходьбы до совхоза. Точно. Но идет он куда медленнее нормального шага. Выходит, ему понадобится полтора часа, чтобы пройти это расстояние. Солнце уже скрылось за сопками, но до его полного захода он успеет выбраться из тайги. Разумеется, он уже возвратится в потемках. Стало быть, не так уж все и страшно. Только вот нога…
— Подвела ты меня, — пробормотал он и, ободренный, сделал толчок палками и расслабленно повалился левым боком на мелкий кустарник, треща ветками.
Отдыхая, он слизывал снег с рукавицы, и глотал эту таявшую во рту ледяную водицу, и прислушивался, глядя вверх.
Темно-голубое студеное небо с сиренево-розоватыми облачками было таким бездонным, таким огромным, и это морозное безмолвие еще более усиливало ощущение беспредельности этой выси. На минуту Чадин забылся; в колене подергивало, но было еще терпимо. Он перевел взгляд на калиновый куст, и в памяти что-то ожило, взволновало его: да, тогда он обрывал ягоды и жалел, что Ули нет рядом с ним. И не будет. С нею не так просто… «Она не такая, как эти… — подумал он об официантках, этих поднакрашенных пройдохах, корчащих из себя скромненьких, честненьких… — Ну, допустим, с ними все ясно, а какой ты сам? Сам-то ты какой?» Ему захотелось взвыть от непонятной злобы.
Он вспомнил последний, постыдный случай