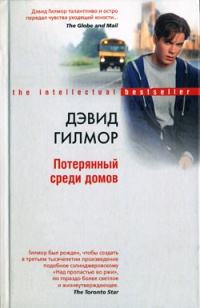– Я отправлю кого-нибудь за Габриелом Вальсом, чтобы он прояснил нам ситуацию. Что-то еще, Себастья?
– Больше ничего. Анжелат защитил вас перед Льябресом, который считает, что вы слишком много якшаетесь с евреями…
– А, этот блаженный! Он заинтересован во мне, точнее сказать – в моей жене. Но я беден, разве он этого еще не понял?
Наместник протянул руку к колокольчику и громко позвонил. Немедленно появился слуга, низко кланяясь.
– Пошли Тони к сеньору Габриелу Вальсу. Пусть тотчас же приходит. Скажи, что это срочно.
Слуга попятился к двери и, прежде чем покинуть комнату, склонился в таком низком поклоне, будто перед ним был не наместник короля, а сам папа римский.
– Мне надо идти, дядя. Завтра отбывает Пере Онофре Агило, и я хочу ему кое-что поручить.
– Шелк? Специи? Табак? Не думаю, что он привезет их тебе в обмен на стихи. Тебе пора жениться, племянничек, и выкинуть из головы всякие глупости. Ливорно слишком далеко и, кроме того, не думаю, чтобы тебя там ждали… Она холодна и неприступна, словно принцесса… Тебе это не нужно, поверь. Приходи на днях, я покажу тебе кое-что стоящее…
Себастья Палоу уже довольно давно покинул библиотеку, а наместник все сидел в той же позе, в которой его застал племянник: держа в руке бумагу на подпись, которую подготовил ему секретарь. Но, как ни старался маркиз сосредоточиться на работе, глаза скользили по одной и той же строчке – «Постановляем, чтобы зерно стоило одиннадцать су…», а мысли уносились к тем изысканным удовольствиям, которые доставили ему прошедшей ночью две прекрасно обученные рабыни из сераля Александрии – подарок капитана пиратов, добивавшегося расположения наместника. До этого его высокопревосходительство знал лишь рыхлую плоть своей первой супруги, которая отбыла на встречу с Христом через год после свадьбы, а затем – донны Онофрины, грубую и мало привлекательную. Были еще не слишком изящные любовницы, рядом с которыми невозможно было познать, что одно из самых изысканных наслаждений в мире – любование обнаженным женским телом, юной наготой этих созданий – податливых, лишенных ложной скромности, свежих, – которые обнажались перед ним, услаждая его взгляд, выскальзывая из воздушных покрывал, соблазнительно танцуя, как танцевала Саломея перед Иродом, но в силу своего юного возраста – им было лет четырнадцать-пятнадцать – не осознавая, сколько очарования таят их движения, и давая мужчине ощущение той власти, которую испытывает заклинатель змей над своими подопечными. После танца, когда на них не осталось ничего, кроме браслетов на тонких лодыжках, которые нельзя было снять, не сломав, поскольку эти украшения надевали им в раннем детстве, восточные девы замерли перед наместником, готовые исполнить любой его каприз. Но Антонио Непомусено Сотамайор-и-Ампуеро не потребовал от них ничего иного, кроме как вновь одеться и повторить весь спектакль в точности, от начала до конца. Сознание того, что он – полновластный хозяин этих восхитительных тел, позволяло растягивать наслаждение. Маркиз собирался усладить этим зрелищем нескольких самых близких друзей, пользуясь тем, что его супруга, безразлично отнесшаяся к появлению рабов, ничего не подозревает. В противном случае слух о невинных развлечениях наместника докатился бы до курии, где были бы рады любому проступку властителя Майорки, дававшему повод раздуть громкий скандал.
Жизнь была достаточно щедра к наместнику, именно поэтому он больше не ждал от нее особых подарков. Господь не пожелал послать ему детей в законных браках. У него было, правда, двое бастардов, здоровых и сильных, процветавших при Дворе под покровительством Ее Величества Королевы-матери, которая всегда выказывала ему знаки милости. Особенно после того, как умер Король, и он, будучи в это время в Мадриде, постарался утешить Ее Величество донну Марианну, преподнеся ей целебный камень в оправе из брильянтов, который она соизволила носить. Более того: во время аудиенции регентша заверила маркиза, что с тех пор, как ее палец украсило это кольцо, головные боли, столь долго донимавшие ее, значительно ослабли. Королева несомненно благоволила Антонио Непомусено и показала это в истории с наместничеством, получить которое ему так хотелось после женитьбы на своей майоркской родственнице донне Онофрине. Должность позволила бы значительно увеличить капитал супруги, коим муж распоряжался как своим, и манила не только потому, что он был нечестен на руку – не более, чем другие – и стремился продавать привилегии и милости. Она также позволяла контролировать пиратскую торговлю, важный источник доходов маркиза де Луби, которая обогатила и его отца. Тесть наместника, как и многие знатные майоркцы, вел дела с пиратами, пользуясь, ко взаимной выгоде, посредничеством евреев. Но если дела поворачиваются так, как говорит племянник, то придется менять союзников: несмотря на то что Вальс – человек во всех отношениях приятный и заслуживающий доверия, следует помнить о возможной конфискации имущества. Исключая первые дни после прибытия на остров, когда давние недоброжелатели из зависти или по иной причине считали возможным не останавливать кареты, чтобы поприветствовать его, прогуливавшегося по молу, остальное время правления маркиз провел спокойно. Случилось это потому, что, во-первых, он всячески подчеркивал авторитет своей власти, а во-вторых, заточил пару грубиянов в крепость Бельвер[94] и бросил в башню Ангела нескольких кучеров, обвиненных знатными хозяевами в рассеянности.
Новости, которые сообщил Себастья – лучший шпион из всех возможных, друг и почти что сын, – в другое время сильно взволновали бы его и заставили крепко подумать над планом атаки или, по меньшей мере, обороны, но на этот раз маркиз никак не мог отвлечься от изысканных видений прошедшей ночи… «Подожду, пока придет Вальс, – сказал он себе. – Что я выиграю, если буду торопить события?»
Шрам шел, не зная толком, куда направиться от ворот Святого Антония. Он был одет в парадный костюм, и его фигура сразу привлекала к себе внимание огородников, которые шли пешком или въезжали и выезжали из городских ворот, кто – верхом на муле, кто – сидя на телеге с товаром. Шрам, казалось, не знал, куда податься, и двигался словно во сне. Он останавливался, лишь когда натыкался на кого-нибудь или слышал возле себя скрип колес или перестук подков. Ювелир не обратил внимания на брызги мочи мула, которые оставили пятна на его штанах, что сначала вызвало смех и брань мальчишек, а затем – град камней, от которых он едва мог уклониться. Один из камней сильно поранил ему ногу. Кортес, хромая, попытался уйти прочь. Но не в сторону Города, поскольку оттуда и нападали сорванцы, а к саду Вальса – единственному месту, где он мог получить помощь. Пройдя в калитку, Шрам попросил одного из огородников, трудившихся поблизости, позвать хозяина, но тот ответил, что не видел его с воскресенья. А вот арендатор здесь, да и младший сын хозяина вот-вот придет. Крестьянина не удивили ни появление нежданного гостя, ни его внешний вид, хотя кровь из раны сильно запачкала парадные штаны визитера. Шрам, превозмогая боль, доковылял до скамейки и сел. В тени виноградной лозы, переведя дух, он почувствовал себя лучше. «Это место обладает целебными свойствами», – подумал ювелир и начал дышать так, словно пил большими глотками не воздух, а волшебный бальзам для врачевания души и избавления ее от всяких терзаний. Дурья Башка умирает. Понятно, что долг он уже не вернет. Только Габриел Вальс, взявшийся быть поручителем за брата, может проследить, чтобы сыновья выплатили деньги, но это займет время и будет стоить многих усилий. Но еще хуже – знать, что Дурья Башка умер, не примирившись с Иисусом, и будет вечно гореть в адском пламени. А что он, Шрам, сделал, дабы спасти его душу? Отправился искать исповедника, который пришел слишком поздно… Кто знает, может быть, в эту минуту Дурья Башка, глядя в стену, уже отдал Богу душу? Точно так же, отвернувшись к стене, умирала при Шраме его мать, а он ничем не мог ей помочь…