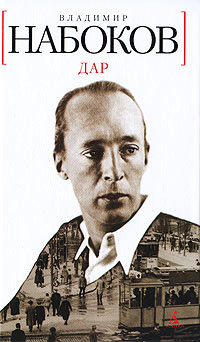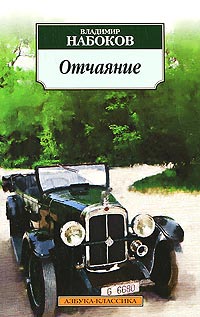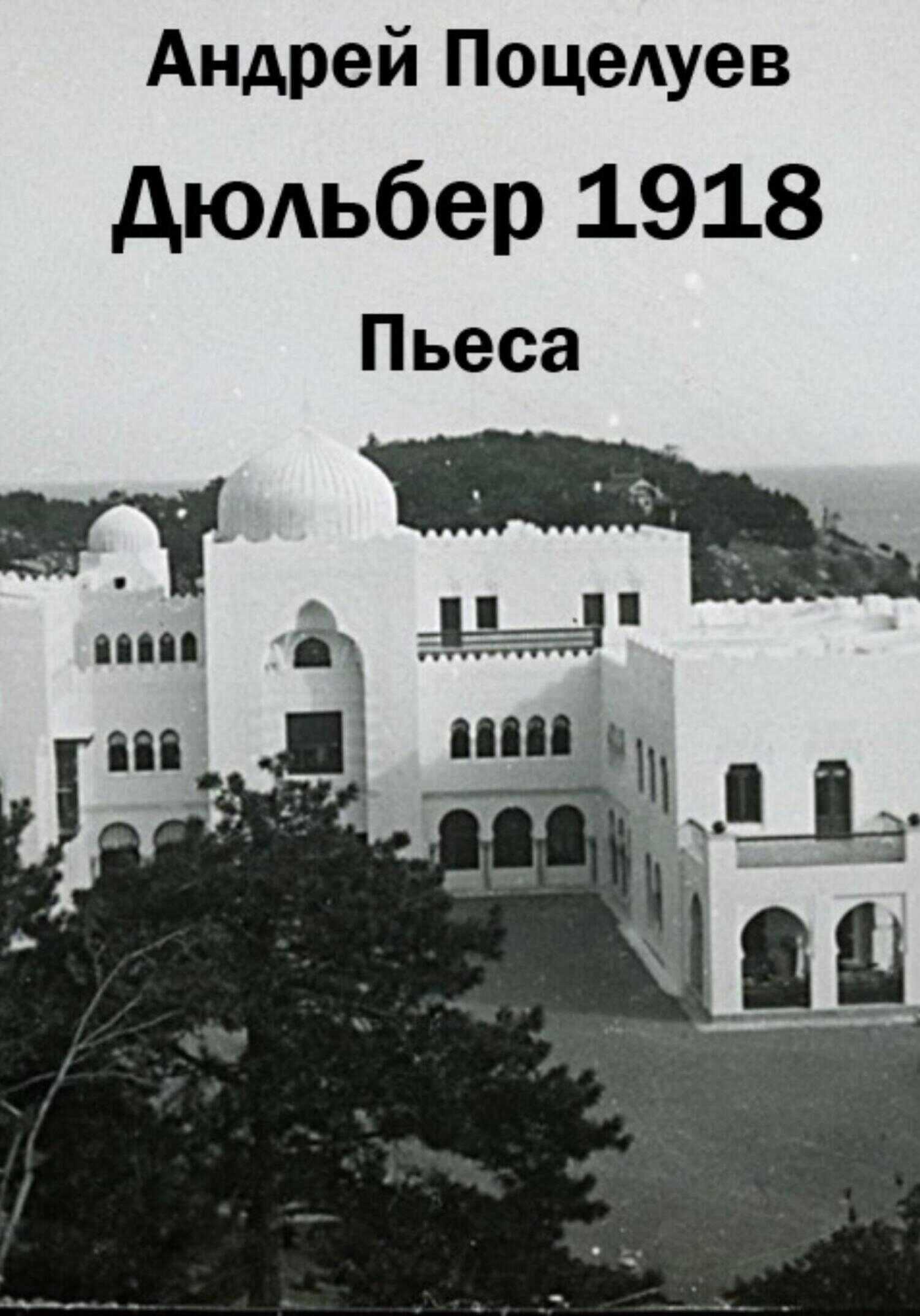о жимолости (Легенда о Тристане и Изольде / Издание подготовил А.Д. Михайлов. М.: Наука, 1976. С. 309). Надежность этой отсылки подкрепляется тем, что Тристан в произведениях Набокова – в первую очередь странник, тоскующий по далекой возлюбленной, ср.: «Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых / и спал на ложе изо льда…» («Тристан», 1921). Старинной французской литературой Набоков занимался в Кембридже.
У капитана в Лондоне жена, / сын маленький. – В прощальном письме к жене, приложенном к дневнику, Скотт просит ее увлечь сына естествознанием и вырастить его сильным человеком (см.: Scott’s Last Expedition. P. 475).
У Джонсона <…> мать… – Ср. запись Скотта от 16 или 17 марта 1912 г.: «Последние мысли Отса были о его матери…» (Ibid. Р. 461).
С. 133. …луна / горит костром; Венера как японский / фонарик… – Запись от 19 июля 1911 г.: «Мы наблюдали очень странные проявления небесных тел <…> Примерно в середине зимы луна появилась сильно искаженной по форме и кроваво-красного цвета. Ее можно было принять за красную сигнальную ракету или за пламя дальнего костра, но никак не за луну. Вчера Венера предстала подобным образом – как судовой отличительный огонь или японский фонарик» (Ibid. Р. 279).
С. 134. …Цыган ослеп, а Рябчик / исчез: в тюленью прорубь, вероятно, / попал… – Береговая партия экспедиции шла на русских собаках, доставленных из Владивостока. В «Scott’s Last Expedition» дается список собак, среди которых – Цыган и Рябчик. О снежной слепоте собак Скотт пишет 10 января 1911 г., Цыгана упоминает 20 марта 1911 г., Рябчика – 11 февраля 1911 г. и 19 апреля 1911 г., заметив, что он выглядит хуже остальных. Потерялся же другой пес – Жулик, о чем Скотт сделал запись от 29–30 июля 1911 г.: «Одна из наших лучших ездовых собак, Жулик (“Julick” в транслитерации Скотта. – А.Б.), пропала. <…> Мирз <…> полагает, что пес попал в тюленью прорубь или расселину. <…> Это ужасная неприятность» (Ibid. Р. 281).
Aurora borealis – Северное сияние (лат.). Д.В. Набоков указал, что в рукописи сперва было правильное «Aurora australis» (Южное полярное сияние), но автор заменил его термином, более известным в России (N84, 11). Описанию этого явления Скотт посвятил небольшую красочную заметку на страницах своего дневника (запись от 21 мая 1911 г.), а также сделал конспект лекции метеоролога Симпсона «Солнечные короны, ореолы, радуги и Южное полярное сияние» (запись от 3 мая 1911 г.).
«Февраль, восьмое: полюс. Флаг норвежский <…> / Нас опередили. / Обидно мне за спутников моих. / Обратно…» – Группа Скотта обнаружила след норвежцев еще задолго до полюса, и их надежда стать первооткрывателями таяла по мере приближения к нему; 16 января 1912 г. Скотт записал: «Вся история как на ладони: норвежцы нас опередили, – первыми достигли полюса. Ужасное разочарование, и мне больно за моих верных товарищей. <…> Конец всем нашим мечтам; печальное будет возвращение» (Дневник капитана Р. Скотта. С. 370). 17 января Скотт записывает: «Полюс. <…> Отвратительный день: к нашим разочарованиям добавился встречный ветер…» (Scott’s Last Expedition. P. 424).
Болеют ноги у Джонсона. <…> возвратившись. – Запись от 7 марта 1912 г.: «Наутро одна нога у Отса очень плоха <…> он удивительно стоек. Всё говорим с ним о том, что будем делать, когда вернемся домой» (Ibid. Р. 457).
…эх, карандаш сломался… Это лучший / конец, пожалуй… – Этот мотив найдет развитие в «Приглашении на казнь», где, как заметил Г. Барабтарло, приближение смерти Цинцинната соотнесено с убыванием карандаша, которым он делает записи: «Он зачеркивает это слово (смерть) своим сделавшимся теперь “карликовым” карандашом, который уже трудно держать и совсем невозможно очинить наново» (Барабтарло Г. Сверкающий обруч. О движущей силе у Набокова. С. 49–50).
С. 136. Я, к сожаленью, замечаю, / что дольше не могу писать… – Буквальный перевод записи от 29 марта, которой оканчивается дневник Скотта: «It seems a pity, but I do not think I can write more» (Scott’s Last Expedition. P. 464).
РЕЧЬ ПОЗДНЫШЕВА. – Публикуется впервые по черновому автографу (BCA. Manuscript box. Rech’ Pozdnyusheva). Отрывки из «Речи» впервые были опубликованы в Н08.
В берлинском письме к жене от 29 июня 1926 г. Набоков рассказывал: «<…> встретил рамолистого проф. Гогеля, который мне сказал: “А вы будете играть Позднышева. Да-да-да…” Думая, что он меня с кем‐то спутал, я улыбнулся, поклонился и пошел дальше» (ПКВ, 119). Неделю спустя были распределены роли: «Принял великолепный душ, прилично оделся и к десяти <…> отправился к Татариновым, где заседали те восемь человек, которые будут участвовать в “суде”, а именно: Айхенвальд (прокурор), Гогель (эксперт), Волковысский (второй прокурор), Татаринов (представитель прессы), Фальковский (защитник), Кадиш (председатель), Арбатов (секретарь) – и маленький я (Позднышев). Было не без юмора отмечено, что в этой компании евреи и православные представлены одинаковым числом лиц» (Там же. С. 136. Письмо от 7 июля 1926 г.). 11 июля Набоков окончил «Речь Позднышева», а на следующий день состоялось представление. В своей «Речи» Набоков во многом отступает от замысла Л.Н. Толстого, хотя, в общем, следует его тексту и воспроизводит лексику и интонации рассказчика. После представления Набоков рассказывал жене: «Был я не в смокинге (подсудимому все‐таки как‐то неудобно быть в смокинге), а в синем костюме, крэмовой рубашке, сереньком галстухе <sic>. Народу набралось вдоволь <…>, сыграли presto из Крейцеровой сонаты. <…> Арбатов – довольно плохо – прочел обвинительный акт, Гогель – эксперт говорил о преступленьях, которые можно простить, затем председатель задал мне несколько вопросов, я встал и, не глядя на заметки, наизусть, сказал свою речь <…>. Говорил я без запинки и чувствовал себя в ударе. После этого – обвиняли меня Волковы<с>ский (сказавший: мы все, когда бывали у проституток…) и Айхенвальд (сказавший, что Позднышев совершил преступленье против любви и против музыки). Защищал меня – очень хорошо – Фальковский. Так как я дал совершенно другого Позднышева, чем у Толстого, – то вышло все это очень забавно. Потом публика голосовала – и я нынче уже пишу из тюрьмы» (Там же. С. 147–148. Письмо от 13 июля 1926 г.).
Вскоре об этом представлении появилась следующая заметка Р. Татариновой (Руль. 1926. 18 июля. С. 8):
Суд над «Крейцеровой сонатой»
Литературный суд – форма диспута хотя и наиболее привлекательная для широкой публики, но вызывает многие сомнения и несколько отдает провинцией. К тому же душный июльский вечер. Несмотря на все эти неблагоприятные условия, вечер, устроенный союзом журналистов и литераторов, вышел подлинно приятным и подлинно литературным. Большой и неожиданный интерес придало ему участие В. Сирина, мастерски составившего и прочитавшего «объяснения подсудимого» Позднышева.
Молодой писатель, правда, сильно отступил от образца, созданного Толстым. В его творческой вдохновенной передаче толстовский убийца-резонер стал живым, страдающим человеком, осознавшим свою вину перед убитой женой, перед погубленной им возможностью настоящей подлинной любви. Сиринскому Позднышеву дано было после убийства понять, что ненависть его к жене была не чем иным, как истиной любовью, которую он убивал в себе из‐за ложного отношения к женщине. Такое отступление от Толстого поставило всех участников суда в необходимость считаться с сосуществованием двух Позднышевых. Прения, пожалуй, утратили от этого свою цельность и согласованность, но зато выиграли в содержательности и разнообразии.
Впрочем, первый обвинитель Н.М. Волковысский не поверил в позднее раскаяние подсудимого. Для него Позднышев как был, так и остался циником, не умеющим понять женскую душу и даже не подозревающим об ее существовании. В течение всего брака Позднышев сознавал невозможность такой жизни и считал, что она должна привести к самоубийству или убийству. Однако он счел возможным покуситься только на чужую, но никак не на свою жизнь. Ссылки на влияние среды неосновательны ввиду того, что из той же среды Толстой взял других героев, умевших глубоко и нежно любить.
Вдохновенная, прекрасная по форме и значительная по содержанию речь второго защитника Ю.А. Айхенвальда была, в сущности, направлена не против обоих Позднышевых. Это