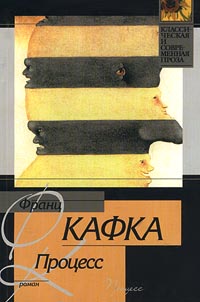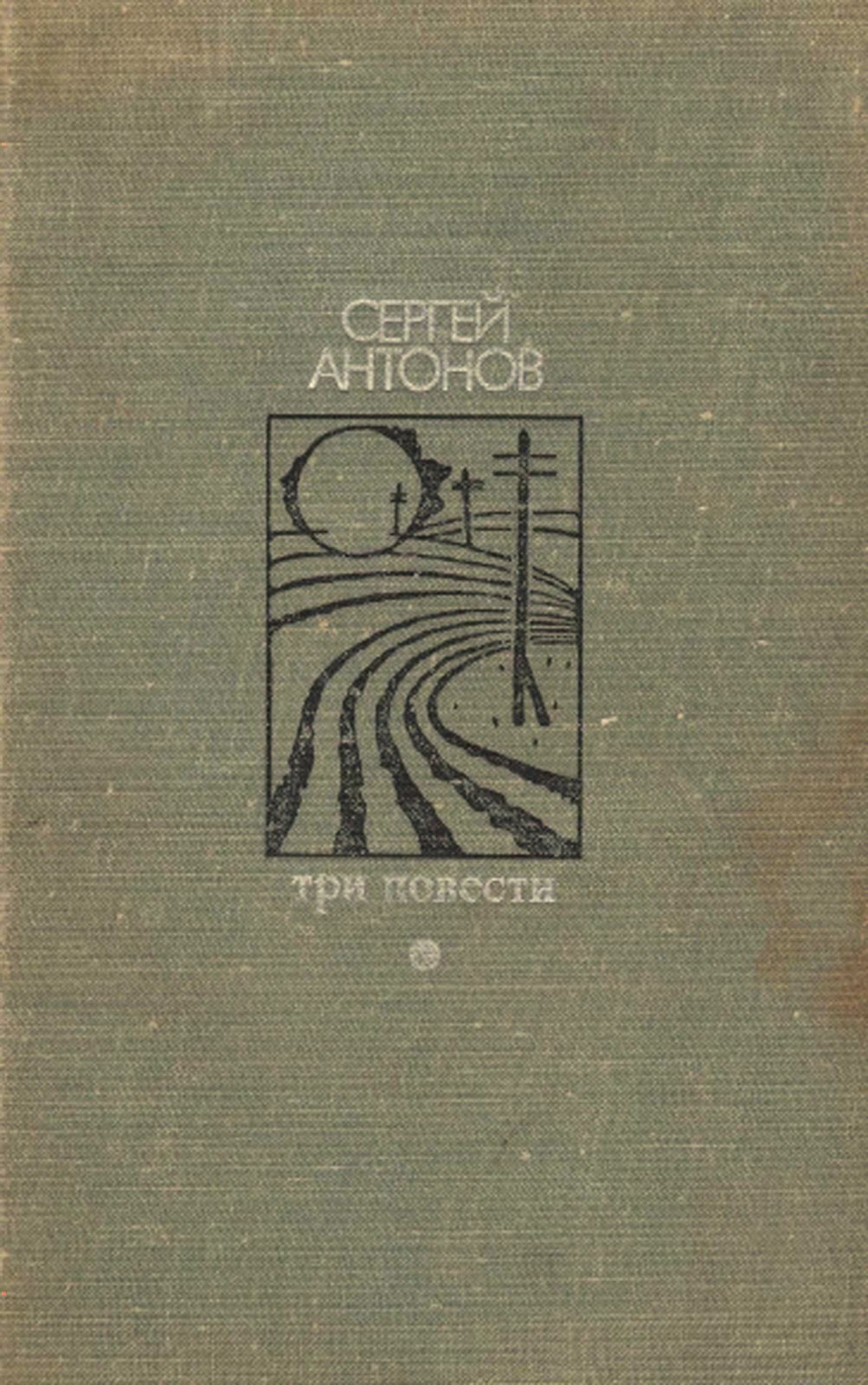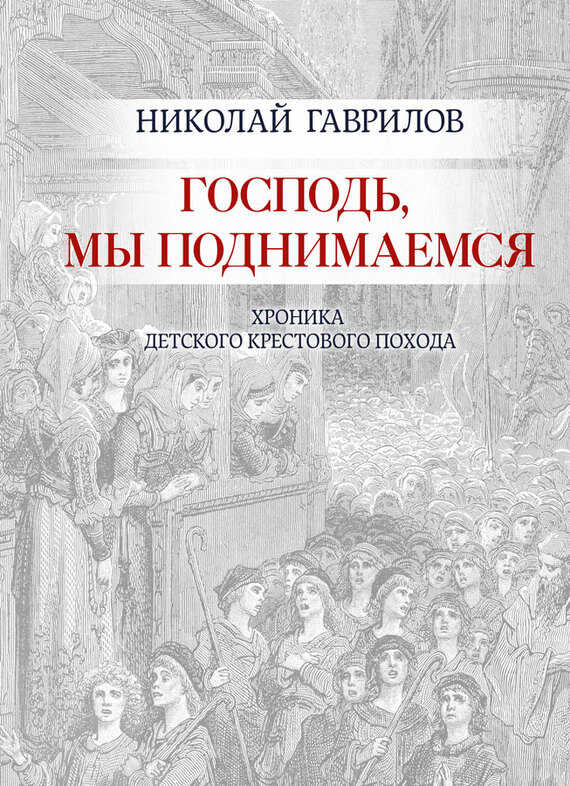были. Так себе. Отец мой мелкий купец. У отца был товарищ, они вместе росли, учились. Отец торговал железом, а товарищ его — рыбой. Товарищу повезло, он построил в Липках [Часть Киева, где жила преимущественно буржуазия.] дом, большой, пятиэтажный, стал оптовиком. Загрёб миллионы. А отец торговал железом. И никому не завидовал. Когда умерло четверо детей, он как-то опустился. У него пропала жажда жить. Потом умерла мать. Я осталась одна. Отца я боялась — он был угрюм, не замечал меня. Молчит, бывало, день, неделю. Подруг у меня не было… Вообще к нам никто не приходил. В школе меня дразнили монашкой. Мне было семнадцать лет, когда однажды поздно вечером пришёл товарищ отца с сыном…
— Это был ваш муж?
— Да… Это был Лука. У его отца на груди был орден — я помню. Я могу рассказать каждый день своей жизни, с тех пор как помню себя… Это страшно — так помнить всю свою жизнь. Так будто сам себя сторожишь… Отец сказал мне тогда: «Тамара, я скоро умру, выходи замуж». Я согласилась и поцеловала ему руку. Рука была холодной, он действительно умер через два месяца. Тогда я впервые увидела, как далеки друг другу люди. Отца хоронили с почестями, так как все его любили. Меня одели в чёрное и вели за катафалком под руки — с одной стороны Лука, с другой — тётка. Я как-то посмотрела на тротуар: там останавливались люди, снимали шапки, спрашивали, кого, хоронят, и шли своей дорогой. Когда я увидела это, я перестала плакать. Мне стало стыдно плакать перед прохожими. Я представила себе как придут они домой и расскажут за обедом, что вот хоронили такого-то и его дочь очень плакала. После этого у меня навсегда высохли слёзы. А плакать было чего.
Она остановилась и откинулась на подушки. Спокойствие её слов всё больше зачаровывало юношу, и чем сильнее волновал её рассказ, тем меньше мог он ей сказать что-нибудь. Он осторожно достал папиросу и снова закурил.
— Не свети мне в лицо, — сказала она. — Я ещё не рассказала тебе, почему Лука, который меня, быть может, где-нибудь только случайно видел, пришёл к нам свататься. Я сама узнала об этом позже. Будь уверен, что обо всём неприятном тебе непременно расскажут. Рано или поздно, случайно или нарочно. А было вот что: Лука влюбился в одну девушку, тоже купеческую дочь, и дело дошло до обручения. Но там будущий тесть или тёща — не знаю уж кто — как-то неосторожно выразился, что это большая честь для рода Гнедых, — породниться с их семьёю. И старый Гнедой взял Луку и привёл к нам. Лука ненавидел, его, но покорился. Ты можешь догадаться, какая ожидала меня судьба… Словом, Лука говорил, что если я разбила ему жизнь, то должна хоть потешить его.
— Чего же вы не бросили его? — спросил Степан.
— О, он заботился об этом! Все двери были заперты, а окна на четвёртом этаже все открыты. Как он хотел, чтобы я покончила с собою, но сам убить меня боялся. Я ждала, чтобы умер отец. Но после его смерти Лука ко мне переменился, перестал бить меня, совсем забыл обо мне. Я редко видела его. Конечно, мне рассказывали, где он, что он, с кем живёт. А я только с виду жила на земле. Знаешь, что такое мечта для того, кому больно? Это проклятие. Но как я мечтала! Чем тяжелей мне было, тем счастливей я была. Я знала чудесные миры. Я переселялась на ту звезду, которая вечером всходит, — там прекрасные сады, тихие ручьи, и никогда не проходит тёплая осень. Потом у меня родился сын…
— Максим?
— Максим… Я хотела, чтобы его звали иначе, чтобы его звали… 1
— Как чтобы звали? — спросил он.
— Ты удивишься… Чтобы звали Степаном!
— Почему?
— Тогда я не знала, а потом поняла. Я имела достаточно времени, чтобы изучить себя, чтобы раскрыть в себе каждую мысль. Видишь ли, я сама в конце концов стала себе удивляться. Я не любила себя так, как другие себя любят. Но сама себе была необычайна близкой. Понимаешь? Кто сам себя любит, тот раздвоен, а можно ещё слиться с самим собою… Тогда любить себя невозможна, никак. Но тогда не боишься себя и своих мыслей… Так вот что. Было мне лет двенадцать, когда у нас служил работник. Как-то я уснула вечером над книжкой, и он перенёс меня на кровать. Когда он нёс меня, я проснулась, но притворялась, что сплю, чтобы он не поставил меня на ноги. Я закрыла глаза, мне было очень страшно и приятно. Потом мне ужасно хотелось попросить его, чтобы он носил меня, и это желание было таким сильным, что я удирала из дому от стыда. Всякими способами я добилась того, чтоб отец забрал его в магазин, и больше его не видела…
Степан чувствовал какую-то неуверенность. Неужели это она, его смеющаяся Мусинька, такая радостная и шутливая? И ему вдруг стало неприятно, что женщина, которую, как казалось ему, он знает хорошо, имеет какие-то свои, не связанные с ним секреты.
Она продолжала:
— Потом революция уничтожила его миллионы. Лука за месяц поседел, и нас выселили из Липок. Тогда он заметил меня и Максима. Как-то ночью он пришёл ко мне в комнату и спросил: «Тамара, ты ненавидишь меня?» Я ответила прямо: «Ты для меня не существуешь». Тогда он стал меня бояться. Ему страшно было на меня взглянуть. Он начал носить синие очки… А Максим вырос, стал юношей. Может, я сама виновата — я его безумно любила. Иногда мне казалось, что его должны украсть. Я сторожила его целые ночи. Когда он начал ходить в школу, я умирала от тоски и страха. Он рос тихий, нежный. Собирал бабочек, жуков, потом марки. Любил читать. Никогда у него не было товарищей, — никого, кроме меня. Вечером он рассказывал мне обо всём, что видел днём, что делалось в школе, — всё, всё. Я помогала ему учиться, пока могла. Когда он стал юношей, мной овладела страшная скорбь… Ведь он должен был от меня отойти. Я мучилась, плакала. Он это понимал. Как-то подошёл ко мне и сказал: «Мама, я никогда вас не оставлю». «Это невозможно», — сказала я. Он ответил: «Увидишь, разве я когда-нибудь обманывал тебя?» И действительно он меня не обманул.
Она замолчала, сама проникаясь