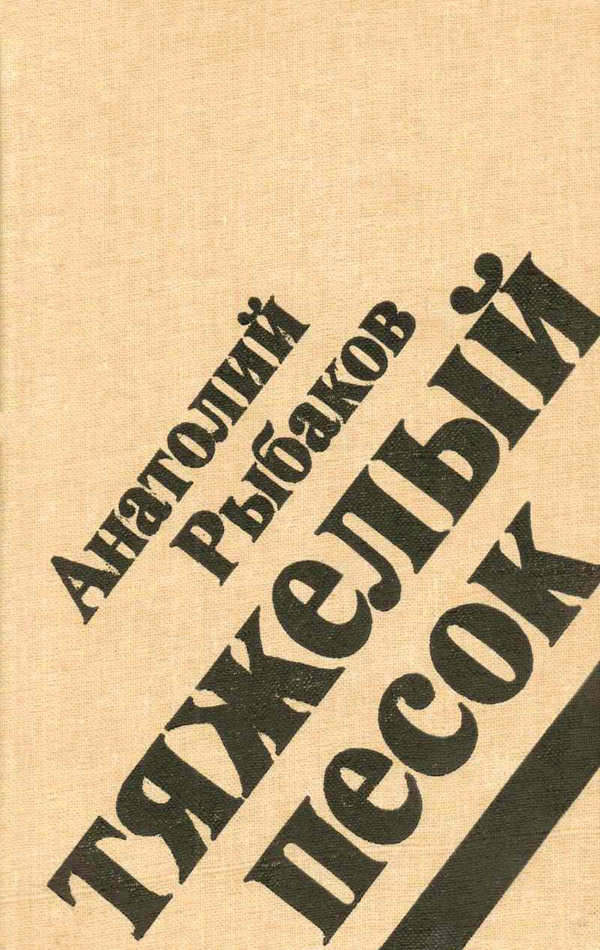ему не удастся уснуть. Встал, позвал охрану, попросил сигарету. Ему дали только окурок, из которого он страстно извлек три затяжки. После первой он вспомнил свою победу на дуэли, после второй перед его глазами предстали успешные дни во время кратковременной оккупации Белграда. Затянувшись в третий раз, он решил бежать в Америку. Вытащил из-за подкладки пиджака кучу немецких купюр и попытался подкупить охрану, но безуспешно. Его разбудили в пять утра и предложили принять последнее причастие. Он был расстрелян в этот день вместе с тремя спекулянтами, арестованными в окрестностях Белграда и Смедерева. Для Гавры Црногорчевича Великая война закончилась перед расстрельным взводом на песчаном берегу со стороны Дуная ниже Вишницы. Тысячи немецких марок, зашитых под подкладкой пиджака, вымокли в савской воде, когда его тело упало на речную отмель. «Был бы у меня „Идеалин“, почистил бы запачканные ботинки…» — это было последнее, о чем подумал Гавра Црногорчевич.
«Если бы со мной были мои помощники, которых я люблю как сыновей», — подумал Мехмед Йилдиз, пока сам выкрикивал цены предлагаемых товаров. Рядом с ним находился мальчишка лет восьми. Всех остальных пятерых крепких продавцов и учеников забрали в турецкую армию и послали в разные концы света, где его империя защищала восход и закат солнца. Самого старшего, рыжеволосого, который так ловко обманывал при взвешивании, чтобы и хозяин был доволен и покупатель ничего не заметил, послали во Фракию. Его черноволосый брат с нежным пятном на лбу, так хорошо прогонявший песней усталость по вечерам, отправился на Кавказ. Третий ученик, долговязая жердь со звонкой улыбкой, разгонявшей все их заботы, поехал в Палестину. У эфенди Йилдиза было еще двое приказчиков, 1895 и 1897 года рождения, их тоже мобилизовали. Один был уже почти взрослым мужчиной, а другой — еще почти ребенком. Призвали и самого сметливого приказчика, новоиспеченного счетовода, его послали в Месопотамию. Да и самого младшего, мальчишку-озорника из соседнего дома, отправили в турецкую армию в Аравию. Это торговец пряностями воспринял особенно тяжело. Разве Порте в этой войне нужны и малые дети?
Вот так эфенди и остался в одиночестве. Сосед отослал к нему своего самого младшего сына, брата рыжеволосого и черноволосого продавцов, чтобы тот был у Йилдиза под рукой, но выглядело это как турецкий деловой реванш, совсем неподходящий для сложившихся обстоятельств, ибо восьмилетний ребенок не умел ни подойти, ни представиться, ни крикнуть. Через два дня эфенди сказал ему: «Иди домой, сынок» — и сам встал за прилавок. Улицы Стамбула опустели. Какая-нибудь замужняя женщина из хорошей семьи в лиловой парандже иногда заглядывала в его лавку, но это случалось редко. «Какая тишина, какая тишина», — повторял торговец, у него теперь было достаточно времени, чтобы осмотреться вокруг. Вот в одном доме с открытой террасой он сквозь окно видит слугу, разворачивающего рулон обоев. Сквозь промежуток между двумя другими зданиями он может любоваться Босфором, блестящим, как сброшенная змеиная кожа…
По ночам эфенди Йилдиз спал совсем мало. Очнувшись ото сна, звал кого-нибудь из своих продавцов. В одну из ночей ему не хватало одного, в другую — второго, в третью — третьего, в четвертую — четвертого, в пятую — пятого, а на шестую ночь эфенди звал всех пятерых. В четыре утра он отправлялся на склад в конец Золотого Рога и доставал оттуда новые запасы красных приправ. Перед рассветом ехал на трамвае на молитву в Айя-Софию, чтобы еще до семи утра самому открыть лавку. Выкрикивал цены, с трудом находя время, чтобы прочесть одну или две суры из Священного Корана, и думал о себе как о последнем турке, хранящем древние традиции. Он больше не забавлялся своей маленькой игрой с приправами. Красные каждый день настолько превосходили по продажам зеленые и коричневые, что торговец потерял всякую надежду на то, что хотя бы один день окажется хорошим.
Совсем потерял надежду и великий маэстро Ханс-Дитер Уйс. Концерт, который он дал в оккупированном Брюсселе, теперь казался ему последним моментом умирающей цивилизации. После он наблюдал только за голодом, отступлением и смертью. Его пригласили к двум немецким принцам, тяжело раненным в Голландии и Франции. Это было самым трудным из всего, что когда-либо делал певец. Когда маэстро позвали, принц Шаумбург-Липпский уже умер, и его пение над смертным одром было по сути реквиемом, но принц Мейнинген еще подавал признаки жизни, когда певца срочно привезли к нему на санитарном автомобиле. Принц хриплым голосом попросил исполнить для него арии Баха, а он, сам не зная почему, стал петь один из канонов Баха, что было глупо и почти невозможно для одного исполнителя. Он начинал верхним голосом, как тенор, а потом опускал дрожащий голос в нижний регистр, но ему казалось, что рядом с ним кто-то глухо подпевает холодным тенором. Нет, это пел не умирающий принц, у того едва хватало сил, чтобы дышать. Уйс слышал, очень хорошо слышал, как смерть вместе с ним в верхнем регистре поет двухголосный канон. А потом принц умер. Какие-то орденоносные офицеры, только и ждавшие смерти принца, вошли в комнату, сказали один другому: «Кончено!» — и грубо выставили певца вон. На выходе он увидел врача с металлическим тазом, где уже был приготовлен тестообразный гипс для изготовления посмертной маски.
Потом какие-то увешанные орденами офицеры предложили ему спуститься в подвал. Там он сел за стол с двумя стариками, говорившими только по-французски. Он завел с ними разговор и узнал, что они — владельцы этого дома, превращенного в штаб немецкой армии. Старики упорно твердили, что дом принадлежал их семье триста лет, вплоть до 23 сентября 1914 года, а потом спросили, не он ли пел на верхнем этаже. Он подтвердил это и представился, в ответ те вскочили и поцеловали ему руки. Сказали, что два раза слушали его в Париже, а маэстро Уйсу все это казалось настолько необычным, что он не знал, плакать ему или выругать этих стариков, целующих ему руки. Выходит, цивилизация все-таки выжила, но загнана в подвалы и настолько стара, что умрет еще до конца Великой войны, подумал он.
Эти мысли занимали его и две последующие недели, пока его возили где-то за линией фронта и заставляли петь, как заводную куклу. Но разве он сам не признался себе, что лишился всех чувств и потерял веру в искусство? И разве тогда не все равно, где он поет и кто приказывает ему петь? Так он невольно соглашался с воинскими порядками. Его возили, представляли распоряжающимся офицерам, он выступал… 1914 год он должен был завершить