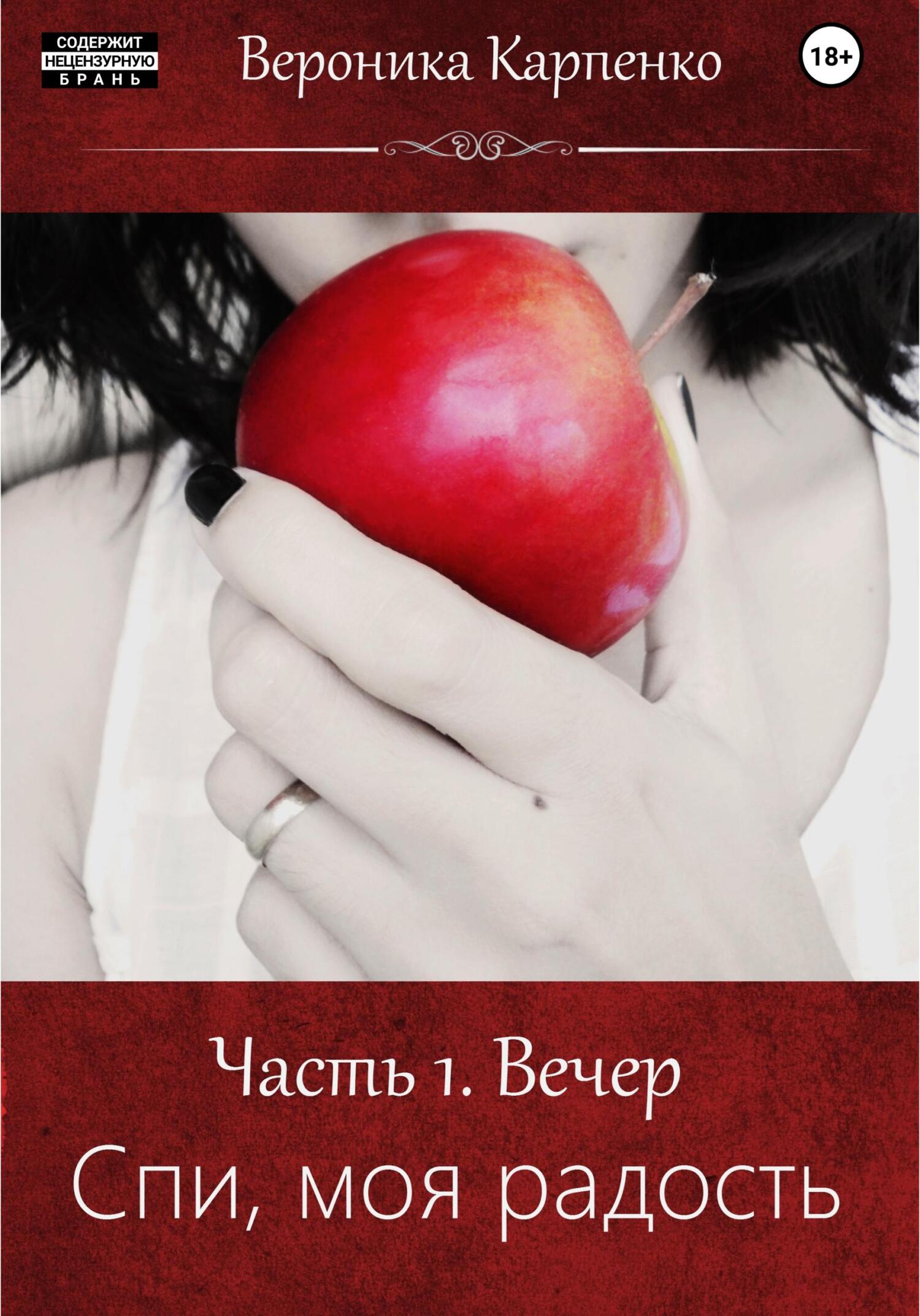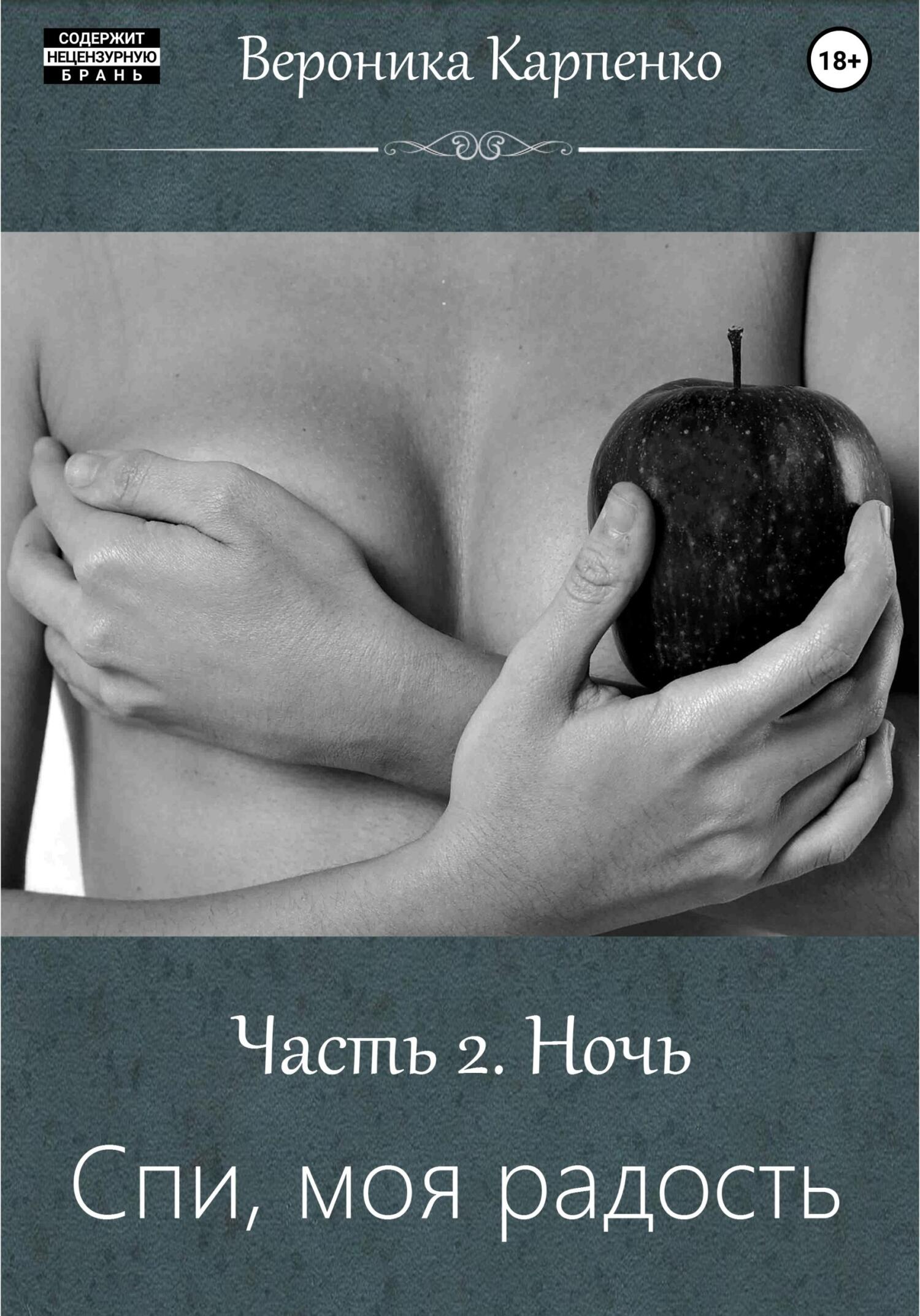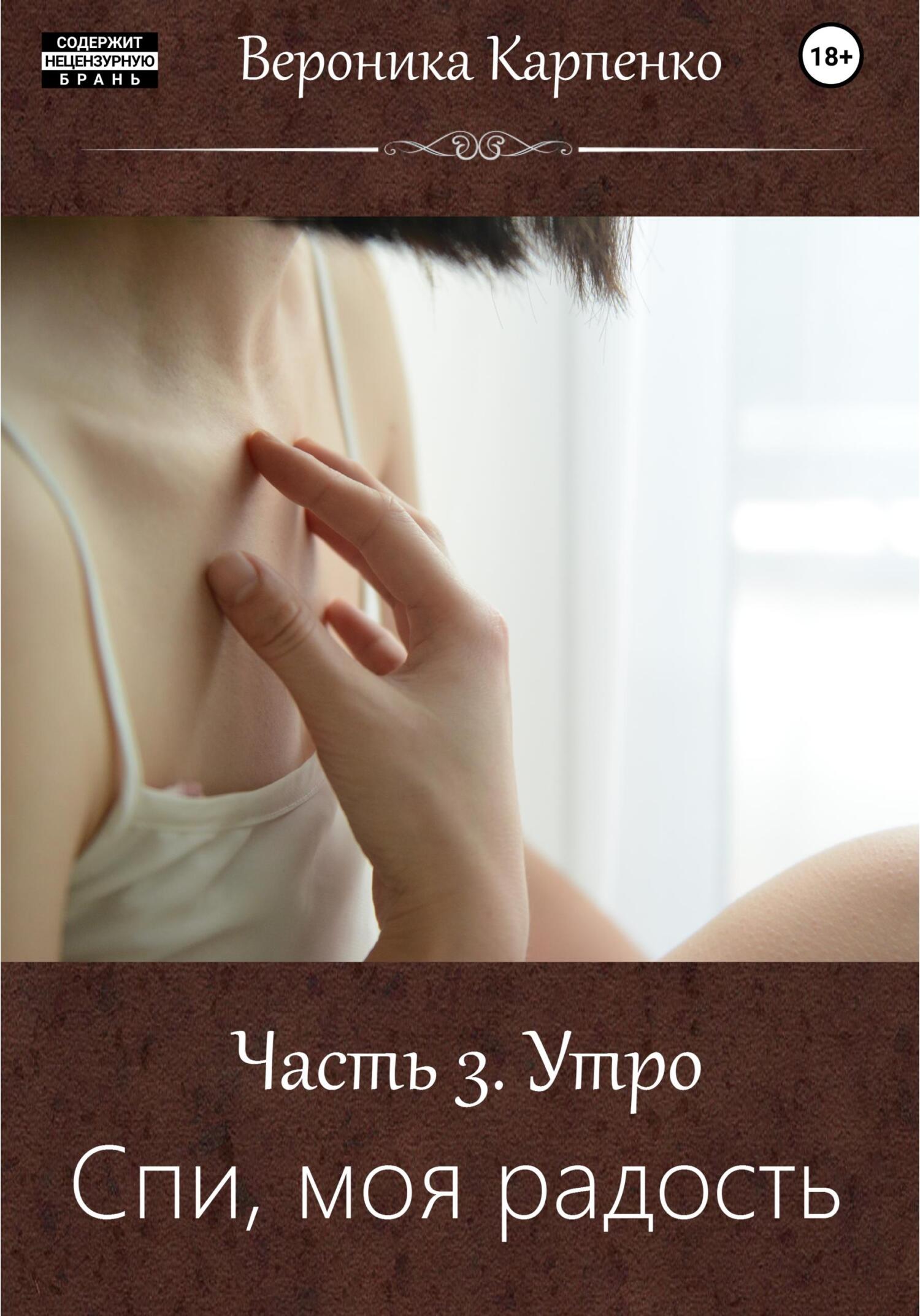цикад, которое распиливало его кости. Старый ветер знал это. О, как же это тяжело — уходить. Как тяжело возвращаться к себе, к своей первоначальной тени. Ветер молчал и неумолимо подталкивал ночь к тому, чтобы та забрала Алексиса в свою неподвижность. Даже листва на деревьях держалась настороже. Муравьи не переступали своими крошечными лапками. Кладбище замерло.
Алексис слушал. Он чувствовал. Тишина. Это пришли за ним. Тишина, подобная буре, подобная наждачной бумаге. Молчание ветра, который дожидался его в кронах деревьев. Воздушная яма. Дыра в материи, от которой отскакивали гвозди мира. Ангел терял терпение.
4
Сегодня был последний день этого учебного года, когда Ноэми привели в детский сад. Она знала, что нарывается на неприятности, потому что все — родители, воспитательницы и даже директриса — ласково, но твердо дали понять, что больше не позволят ей убегать из садика. Да, наказание неминуемо, но ей во что бы то ни стало нужно сообщить брату важные новости. Что они все вернулись домой, что она будет теперь навещать его реже, что она будет помнить о нем всю жизнь. Она станет навещать его вместе с их родителями, чуть-чуть позже, ковда они немного привыкнут жить без него.
Девочка пробежала по аллеям до места, куда отныне могла добраться хоть с закрытыми глазами. Она так волновалась и спешила, что забыла нарвать маргариток. Алексис спал. Надо сказать, с недавних пор он спал почти все время. Ну, то есть не то чтобы он спал на самом деле, но его присутствие ощущалось слабее с каждым днем.
— Алессис.
Воцаряется тишина. Ноэми наматывает на палец прядку волос. Затем поднимается, встает на могильную плиту, несколько раз пытается прыгнуть с камня на траву так, чтобы приземлиться именно туда, куда наметила. Дождевая капля, подсвеченная зеленоватым предвечерним светом, падает ей на лицо. Ноэми поднимает глаза, направляет личико к облакам, сквозь которые просачиваются солнечные лучи.
Алексис вздрагивает, узнает эти легкие шажки по камням. Он направляет к сестре взгляд, ощущает ее сердце, тянущееся ему навстречу. Как хорошо. Как бы ему хотелось продолжать эту потаенную игру, ловить эти остатки тепла. Но внутренний голос нашептывает ему другое. Он не вправе удерживать сестру в этой невозможной связи. У нее впереди жизнь, которую надо прожить. Пришло время ей освободиться от него.
Он затаскивает себя обратно в глубь земли, заставляет себя вернуться туда. Он останавливает взгляд, держится неподвижно, как в далеком детстве, когда родители поздно возвращались домой. Считалось, что Алексис давным-давно спит, но на самом деле он тайком читал книги при свете карманного фонарика, коротая время до приезда отца и матери, а тем временем его нянька преспокойно сидела на первом этаже и серфила в интернете. Стоило Алексису услышать звук мотора подъезжающей машины, он мигом гасил фонарик и замирал в полумраке, ожидая, когда родители заглянут к нему; он лежал, сжав кулаки под одеялом, закрыв глаза и сохраняя на лице бесстрастное выражение. Его ресницы слегка подрагивали, и поцелуи родителей, которые считали, что он спит, были величайшей радостью в мире. Они на цыпочках выскальзывали из комнаты сына, и тот уносился в страну сновидений.
Теперь следует точно так же повести себя с Ноэми. Он сосредоточивается, притворяется покойником под землей. Ресницы не дрожат, сердце не дрожит, ничто не дрожит. Он помнит, что нужно делать.
— Ну хорошо, ладно. Это не беда, Алессис. Прости, мне надо бежать, пока в садике никто меня не хватился.
Она ложится на камень, отправляет брату свое ласковое прикосновение. Сердце Алексиса танцует, но он не подает виду.
— Пусть тебе снятся приятные сны.
Она стирает с камня следы своих подошв. Затем уходит.
* * *
И вот его младшая сестра ушла. Она шагала, устремляя взгляд в другую сторону, в сторону детского сада, в сторону жизни, открывавшейся перед нею длинной дорогой, которой он сам никогда не узнает. Он слышал шорох гравия, он представлял себе легкий бриз, раскрывшиеся цветы. Он становился чужаком для настоящего времени. По большому счету, такая же судьба ожидала и те часы, к которым устремлялась Ноэми, и те тысячи секунд, из которых сложилась его собственная судьба. Десять лет, двадцать лет, сто лет, какая разница, ведь вся наша жизнь — это непостижимое присутствие в мире одного мгновения. Сколько генных мутаций, сколько разветвлений рек предшествовало его появлению на свет? Он родился… У него было небо, смех, зимние вечера. Была музыка и ласковые прикосновения. Были книги и спрятанные в них сокровища. Были страхи и сомнения. Было и то, и это. Сознание, тело, сердцебиение — у него было все. Запахи, невзгоды, любовь. Все эти мгновения, собранные ныне глубоко под землей, которые будут храниться в памяти, связанные с солнцем, с его сестрой, с его близкими, с деревянным корпусом виолончели, со страницами книг, со всем остальным миром. Все эти мгновения, которые утратятся только ради того, чтобы стать частью вечного живого прилива. На этот раз ангел все-таки явился к нему.
Ему оставался сжатый ритм стука дождевых капель по камню. Тяжесть облаков на небе, которого он больше не видел. Раскидистые ивы вдоль кладбищенских аллей, размокшие от ливня. Что, кроме пения дождя, могло иметь значение в этот час? Алексис родился тринадцатого марта, и первые месяцы его жизни убаюкивались струйками воды, падающими на черепичную крышу, и улыбкой матери. Он родился под проливным дождем и сегодня заканчивал умирать под таким же плаксивым небом. Он утопал в танце ливня над своей головой. Пока он продолжал слышать дождь, ничто не было потеряно навсегда, из колыбели возле окна открывался вид на светлый горизонт, и Алексис ускользал от горя могилы, которая заключила в себе его двадцатилетнее тело. Лежа на краю сна с закрытыми глазами и неподвижными руками, как в самые первые дни, Алексис возвращался к тому времени и снова становился ребенком, родившимся в марте 1999 года, который еще не отзывался на свое имя. Тогда его разум состоял из первых жизненных впечатлений и барабанной дроби дождя, которая как будто бы проникала под кожу. И вот последние часы стали первыми часами, напитанными бурей и бессилием, нерешительными в этом неприрученном теле. Он тосковал по матери, он тосковал по ангелу и по пению птиц в тот момент, когда буря рассеивается, но в остальном все было точно таким же: он слушал шепот жизни по ту сторону себя, и нить от прошлого к будущему была не мыслью, а перестуком капель по корням души. В самой сокровенной глубине души он