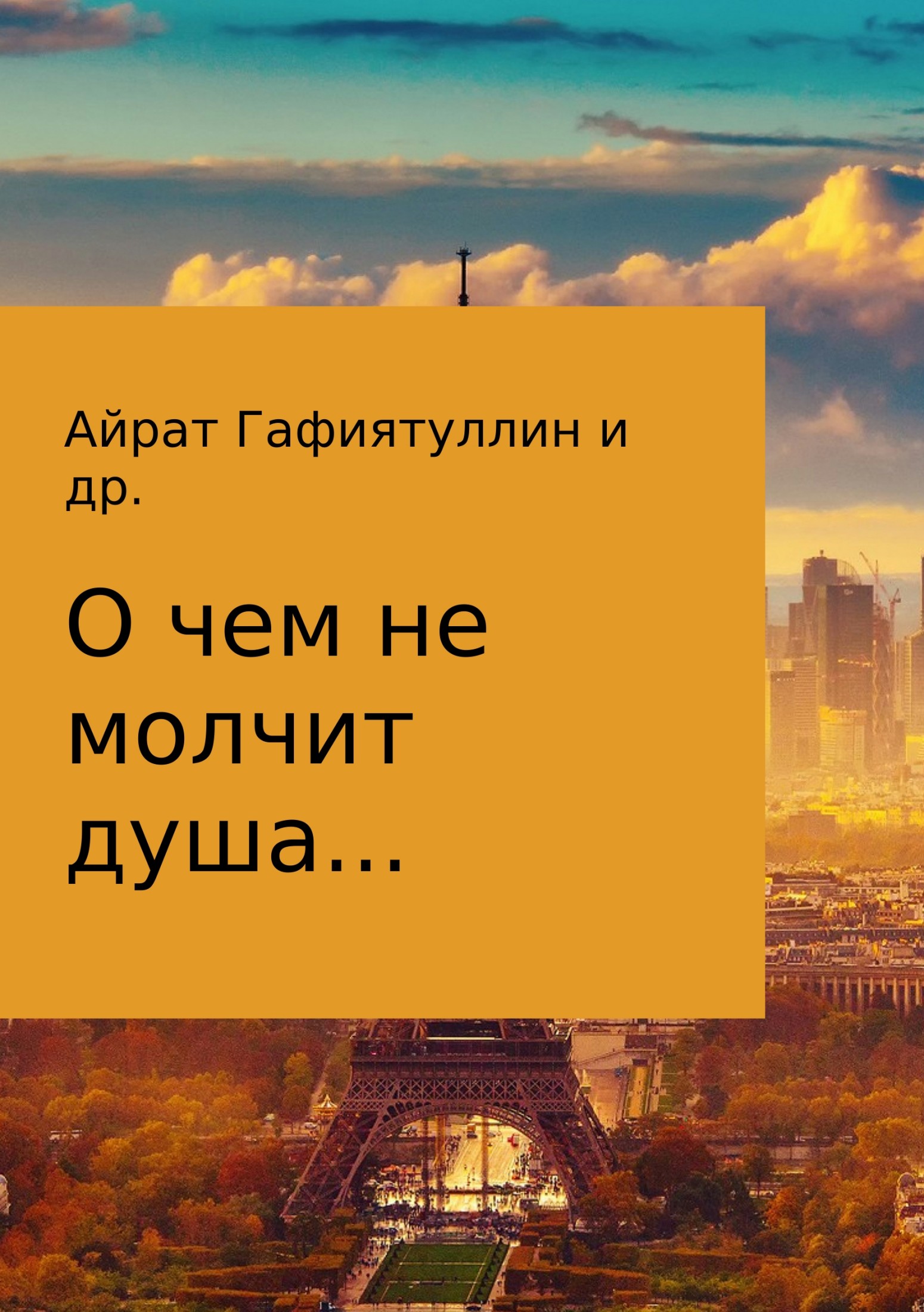Ничего, хорошо принялся крыжовник-то, растет! Батя перестал шуметь; в бане попарится, велит принести себе травнику и идет в садок отдыхать. Пьет травник и крыжовником свежим закусывает. Рвет ягоды прямо с куста. Теперь сам поговаривает, как бы еще и для малины место определить…
Санька верил в Серегу и нисколько не сомневался в намеченной им линии. Серега даже пустяк доводил до конца, проявляя при этом непостижимое упорство и настойчивость. Конечно, он станет агрономом, вырастит тяжеловесную пшеницу, разведет сады. И еще найдутся люди вроде Сереги. Они тоже что-нибудь будут творить большое и чудесное. Вот тогда и расцветет та новая жизнь, о которой говорил на днях Павел Иванович.
Санька снова лег на спину, устремил глаза в далекое звездное небо.
— Надо, чтобы всем людям было хорошо.
— Всем до единого, — подтвердил Серега. — Иначе трудиться нет интересу. Моему бате хватит и одного садочка за баней, а я смотрю дальше. Я это дело сделал, будто лишь первый шаг шагнул. Вот не поверишь, Санька, а бывает со мной так: закрою глаза и вроде вижу, как стеной стоит в поле пшеница, и нет ей конца и краю. Да и сады вижу, как они цветут.
— Стишки написал бы о своей пшенице. Вон какие слова ты о ней говоришь. Пусть бы мужики почитали.
— Не написать. Я теперича злой. Насчет кулаков любые стишки напишу, душа против них кипит, а о том, что видится впереди, стишками не скажешь. Не хватит у меня для этого слов. Да и не поверят, наверно, мужики. Вот, скажут, чудак, блазнит ему, что ли?
— Кто натерпелся нужды, тот поверит. Любой мужик с Третьей улицы примет твои слова всей душой. Надоело нашему брату впроголодь жить, зерно пудовками считать. Мы с матерью нынешней вёшной на своей полосе землю граблями гоили, чтобы ни одного камушка не осталось, да и пололи рук не жалеючи, а что получим? Ежели наберем пудов сорок, будет хорошо. Разве это урожай! А ведь так-то не только у нас. Тоскуют люди о хороших хлебах. Выходит, что не ты один мечту в мыслях носишь, а, наверно, тыща людей.
— Нет, все равно не написать, — вздохнул Серега Буран. — Слова нужны ласковые, а в душе нет таких слов. Очерствел я что-то, Саньша!
— Слушай, а ежели отец тебя никуда не отпустит? Скажет тебе: сиди дома, женись, помогай по хозяйству!
— Я и так знаю, что не отпустит, — печально, но убежденно сказал Серега Буран. — Он уже давно грозится меня женить. Думает, этим удержит. Однако не удержать. Не станет пускать добром — уйду.
— Мне вот тоже охота уехать, — тихо будто раскрывая свою заветную думку, сказал Санька. — И мать отпустит. Но как ехать? У меня даже штанов подходящих нет. А главное — вроде совестно: ты уедешь, я уеду, Федька Меньшенин следом за нами двинется. И взрослым мужикам пути не заказаны. Небось, ни Павлу Ивановичу, ни Федоту, ни Антону Белошаньгину годы не вышли. Чем они хуже нас? А кто здесь останется? Кулакам, что ли, Октюбу препоручим?
— И, кроме нас, будут люди. Но всем, конечно, нельзя. Кончим кулаков, тогда можно всем! Будет у нас своего хлеба вдоволь, тогда и кулаку конец. К этому мы идем.
Саньку удивила уверенность, с которой друг сказал эти слова. Такая же уверенность была и у Павла Ивановича. «Обмоется земля, — говорил Павел Иванович в тот день, когда ездил в Дубраву, — скинет с себя всякую нечисть, и наступит на ней хорошая жизнь».
Пока Санька думал об этом, Серега вернулся к мысли об учебе.
— Тебе вот, Саньша, недостатки и совесть мешают уехать в город, а мне батя. Добром все ж таки из дому не уйти. Сурьезный он у нас чересчур. Попадет ему книжка в руки — пиши пропала, сгорит в печке. Из-за этого приходится завсегда хитрить. Батя всюду шарится, лишь в одно место проникнуть боится: на крышу. Крыша-то на пригоне старая, а батя тяжелый. Там я и спасаюсь от него, держу в соломе книжки, записки и всю прочую свою премудрость.
— Значит, уйдешь все-таки?
— Непременно уйду. Даже если батя с меня штаны и рубаху сдернет.
Он лег на спину и тоже начал смотреть в звездное небо, но вдруг напряженно вытянулся и шикнул на Саньку. Где-то неподалеку звякнула чека, всхрапнула лошадь, тихо скрипнули колеса.
По знаку Сереги Санька скользнул по траве в узкую ложбинку, затаился близ дороги в старой заросшей колее.
Лошадь бежала мелкой рысью, понуро качая головой. На телеге, свесив ноги, сидел мужик. Санька сразу узнал в нем Егора Горбунова. Ехал он с поля в Октюбу.
— Ладно. Пусть едет! — сказал Серега, когда Санька приполз обратно. — Егор птица мелкая. Коли охотишься на ястреба нечего тратить заряд на сороку. А на телеге-то, Саньша, ничего не заметил?
— Точно не рассмотрел. На самом передке чего-то чернело: то ли лагун, то ли пенек. Скорей всего, лагун из-под кваса. В Дубраве у него загородка есть, у Егора-то, но, наверно, испужался ночевать. Боязливый. Помнишь, как он от трактора спасался: еле опамятовался!
— Где трус, но где и подлец! — осуждающе отозвался Серега. — В нем совести нет ни на грош. — Он на минуту задумался, затем тревожно сказал: — Слушай, Саньша, должно мы с тобой промахнулись. Не ровен час, Егор-то, в лагуне самогонку везет. Не он ли у Максима Ерофеевича в подручных состоит?
— Так я побегу за ним.
— Не надо! Теперича не догонишь.
Ночь становилась глуше. Кичиги — три звезды близнецы — сначала поднимались все выше и выше, ненадолго повисли на середине неба и начали опускаться на запад. По приметам миновала полночь. За Октюбинским озером вспыхнула и тотчас погасла далекая зарница. В хлебах, неподалеку от плетня поскотины, вскрикнул перепел.
Перед утром ребята покинули дежурство. Когда они ушли, по дороге в Дубраву на той же подводе проехал обратно Егор Горбунов.
2
После подъема паров на своем поле Иван Якуня, выполняя поручение комитета бедноты, закончил пахоту почти на всех бедняцких пашнях.
В списке, переданном для соблюдения очередности, оставалось уже не более десятка хозяйств, и Якуня надеялся до Петрова дня с ними рассчитаться. Вообще, обязанности у него были несложные: сварить для тракториста похлебку, сходить в село за провиантом, указать пашню для пахоты и во время отдыха тракториста присматривать за машиной.
Взамен запасного бензина, кем-то вылитого в ограде сельсовета, Платон Кузнецов доставил из города две бочки, наполненные доверху, и потому недостатка в горючем для трактора не было. Тракторист оказался не только веселым, но и трудолюбивым.
Наработавшись за день, он спал в