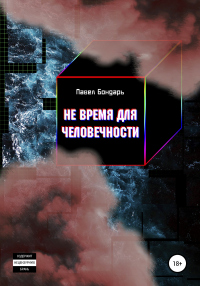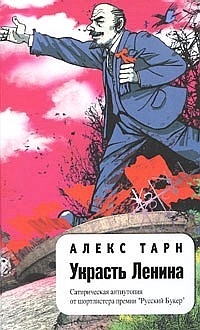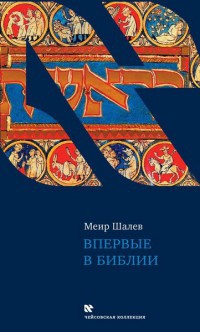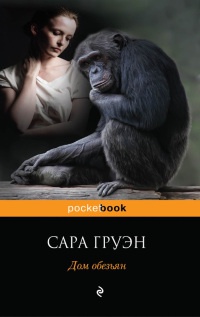Стоило Сальникову помянуть старшего брата, как кто-то, облаченный в черную мрачную одежду, появился возле его дивана. У Афанасия Николаевича сердце екнуло – Павел! Он стоял и усмешливо-жестко щурил глаза.
Нет, помнится, в тот далекий год они были растерянные, жалкие…
* * *
Запоздалая весна топила в грязи улочки Городка, и ошметками глины был обляпан весь зипун Павла, будто брат во все лопатки удирал от кого-то по дорожной колее. Павел тяжело и хрипло дышал, хмурясь, вяло подавил Афанасию руку и, не скидывая зипуна, наследив по полу сапогами, прошел в передний угол и с маху плюхнулся на стул.
– Как жизня? – спросил без интереса и, не дожидаясь ответа, тряхнул взлохмаченной головой. – Продрог я… Выпить чего держишь?
Водку Павел выцедил медленно, сквозь зубы, уткнул нос в ломоть хлеба, согнулся над столом, передернул плечами. Не дожидаясь приглашения, наполнил стакан снова.
«Не иначе, Пашка с похмелья. Притом с жуткого, – решил Афанасий. – Ишь, как харю-то перекосило. Вроде и не увлекался шибко. Что-то у него неладно…»
Павел был уполномоченным по коллективизации и председателем «тройки» в Загородковской волости, самой большой в уезде.
«Лют Панко-то Сальников, лют!» – подслушал однажды Афанасий разговор двух подгулявших загородковских мужичков.
Соседям Сальникова они, видимо, приходились родственниками, собирались после гощения ночевать и выбрели из дому покурить махры. Афанасий, как раз, за дровами вышел и, прижимаясь к забору, прислушался к их пьяному и оттого слишком смелому бормотанию. Шпарили мужики без оглядки:
– Сколь крепкого хозяина этот Панко извел! «Твердым» заданием обложит, как удавку на шею наденет. Иной вывернется еще, разочтется, а ему вскорости – еще больше. И – каюк! Самого в тюрягу, семью на высылку. Как его иные мужики упрашивали, в ногах валялись, а Панко этого не сдвинешь, не прошибешь!
– Вырвем у кулака шерсть и яйца – и точка! – другой мужичок подхихикнул. – А верно, что его и пуля не берет?
– Как заговоренный, дьявол! Два раза покушенье делали – и хоть бы царапина! Ни Бога, ни черта не боится!.. Мужиков, вона, из села Середнее сбегло несколько от колхозу в лес. Укрылись в зимовье, видать, лихое времечко сбирались пересидеть. А куда ни кинь – жрать охота. Домой к семье по ночам ползать – сцапают. Вот и стали мужички на большую дорогу выбираться. Глядишь, обоз какой подкараулят, лопанины-то всякой немало из деревень в город везут. Может, и брали-то с возу чего, только чтоб голод стешить, однако, бросились власти тех мужиков искать. Рыскали-рыскали по лесам, да все без толку: ребята ушлые, схоронились хорошо. И, поди ж ты, Панко выследил! К зимовью подкрался, дверь распахнул! И пока мужики рты разевали, он – наган на стол: дескать, сдавайтесь подобру-поздорову, я – Павел Сальников!.. Сдались, куда денешься…
Прозябший Афанасий, вслушиваясь в слова мужиков, сгорал от черной зависти к брату. Лих, Пашка!..
* * *
И вот не столь уж и много времени с того подслушанного разговора минуло, и Пашка сидел перед Афанасием пьяный, лицо его с ранними морщинами на лбу и возле глаз страдальчески кривилось:
– Надломился я, Афоня! – он уронил голову на сжатые перед собой на столе кулаки, голос хрипел и дрожал. – Впервые в жизни струхнул, в коленках ослаб!.. Чин-чинарем определил я трех мужиков с семьями на высылку, а они об этом откуда-то до поры узнали. Подкараулили на волоку. Ночь накануне я не спал, сморило по дороге, в седле аж задремал. Поначалу подумал – сам с коня упал. Хотел на ноги вскочить, а уж один вахлак на мне верхом сидит, руки выламывает и ремнем вяжет, да еще двое подле с топорами стоят. Говорят: «Узнали мы от верного человека, что ты и нас надумал извести, как злейших врагов. Какие ж мы враги? Один, вон, красноармеец бывший и другие своим хребтом достаток добывали. Одно лишь горе ведают люди от тебя… И посему надумали мы над тобой суд-расправу учинить. Молись Богу, коль еще веришь в него!» Отошел мужик немного, обрез на меня наставил, затвором клацкнул. И все во мне ровно перевернулось, вся жизнь перед глазами промелькнула… Жена, дочки прямо передо мной будто очутились, заулыбались жалостливо так… И знаешь, на колени упал… – Павел заскрипел зубами. – Мужики, говорю, пощадите, не убивайте! Дочерей, говорю, пожалейте, ведь трое их у меня, да и баба опять на сносях! Себя не жалко, а они сгинут!
Тот мужик, что постарше, обрез у напарника в сторонку рукой отвел. Поостынь, мол, маленько, подумать надо… Отпустим тебя, Павел с миром, только ты слово дай, что потом ни нас, ни семей наших пальцем не тронешь. А коли не сдержишь, то под землей сыщем, детям расквитаться накажем, мертвые к тебе придем… Дал я слово. Развязали, – уходи!
– А ты их опосля в бараний рог?! – сжимая кулаки, скорчил зверскую рожу Афанасий.
Павел устало и тоскливо посмотрел на брата:
– Что я, иуда какой? Низко, братан, ставишь. Понял я, что больше мне на этой должности не повертеться. Моих детей пожалели, а мне чужих не жалеть? Да и правильно ли все это делается-то?!
Афанасий насторожился, метнул испуганный взгляд на занавешенные окна. Павел мрачно усмехнулся:
– Ишь, какой опасливый стал! Не боись! Я так теперь ничего не боюсь. Пойду завтра к секретарю райкома, пускай что хотят, то со мной и творят…
Афанасию не удалось узнать, на что сослался Павел, чтобы его отставили от должности, однако, вскоре он уже работал простым мастером на сплавучастке. Братья виделись редко, мимоходом. Так и прошло несколько лет…
О разговоре с братом тем поздним вечером Афанасий уже основательно подзабыл, но однажды пришлось вспомнить все дословно.
Весной тридцать седьмого года неожиданно арестовали скромного неприметного человечка Селезнева, бухгалтера коммунхоза, потом еще кое-кого увез «черный ворон». У Афанасия сердце в пятки ускочило, когда ему принесли вызов в районный отдел НКВД. Но следователь, в котором Сальников с удивлением узнал своего прежнего участкового милиционера – балбеса Куренкова, встретил Афанасия Николаевича радушно:
– Сколько лет, сколько зим! – он с чувством потряс Сальникову руку. – Присаживайтесь! Рассказывайте! Как жизнь, как работа?
Афанасий Николаевич, недоумевая, пожал: жизнь как жизнь.
– А как это у вас, председателя горсовета, прямо, извините, под носом сумела окопаться целая банда вредителей и врагов народа? Ведь готовили заговор. Ни много ни мало, хотели законную власть в районе свегнуть. Этот ваш Селезнев намеревался выехать в Москву и – подумать страшно! – хотел устроить покушение на жизнь нашего дорогого и любимого… – Куренков, округлив ровно полтинники глаза, обернулся к портрету, висевшему над ним на стене.
Афанасий Николаевич ахнул, прикрыл ладонью рот. Слово «ваш» неприятно покарябало слух, и, ощущая противную дрожь в коленках, Сальников залепетал заплетающимся языком:
– Какой он мой… Поди да разгляди их под личиной-то! Все однакие… кабы знатье!