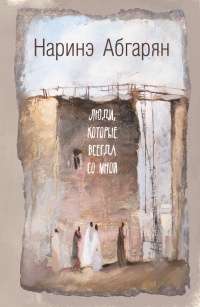— Ну, можно сказать и так.
— И какие выводы ты сделал насчет повязки?
— Никаких определенных. Сначала я подумал, что вы не видите, но такой вывод меня не удовлетворил. Если человек слепой, то зачем ему подчеркивать то, что он слепой? В этом нет смысла. Тогда мне пришло в голову другое объяснение. Возможно, повязка закрывает нечто более ужасное, чем слепота. Например, какое-нибудь увечье. Или, возможно, вам совсем недавно делали операцию на глазах и вы носите повязку по медицинским предписаниям. С другой стороны, ваша слепота может быть неполной и яркий свет раздражает вас. А может, вам просто нравится носить повязку ради нее самой, поскольку вы считаете, что в ней есть нечто привлекательное. На ваш вопрос можно найти бесконечное множество ответов. Мне трудно сразу ответить правильно. Если уж на то пошло, я наверняка знаю только то, что у вас на глазах черная повязка. Я могу утверждать, что она есть, но не знаю, для какой цели.
— Иными словами, ты ничего не станешь принимать на веру?
— Это было бы неосторожно. Часто случается, что кажущееся является не тем, чем кажется, и можно впасть в опасное заблуждение, если поспешить с выводами.
— Ну, а как насчет моих ног?
— Ну, этот вопрос, по-моему, несколько проще. Судя по тому, как они выглядят под одеялом, можно заключить, что они атрофированы, а это, в свою очередь, может говорить о том, что ноги не работают уже много лет. Если все это так, то логично предположить, что вы не можете ходить.
— Старый человек, который не может видеть и не может ходить. И что об этом ты думаешь?
— Я бы сказал, что это человек, более зависимый от других, чем ему бы этого хотелось.
Эффинг хмыкнул, откинулся на спинку кресла и запрокинул голову к потолку. Десять-пятнадцать секунд мы оба молчали.
— Какой у тебя голос, молодой человек? — спросил Эффинг наконец.
— Не знаю. Я его не слышу, когда говорю. Несколько раз я записывался на магнитофон и прослушивал себя, и тогда мне казалось, что голос у меня ужасный. Но, видимо, все так поначалу думают.
— А может он пройти большую дистанцию?
— Дистанцию?
— Может ли он звучать длительное время? Можешь ли ты проговорить часа три подряд и не охрипнугь? Сможешь ли сидеть и читать мне весь день, а потом нормально разговаривать? Вот что такое дистанция.
— Думаю, что это я смогу.
— Как ты сам заметил, я потерял способность видеть. Мое общение с тобой будет состоять лишь из слов, и если твой голос не сможет звучать долго, то на черта ты мне будешь нужен.
— Понятно.
Эффинг снова подался вперед и сделал театральную паузу:
— Ты боишься меня, а?
— Нет, вообще-то.
— А надо бы. Если я решу все-таки нанять тебя, ты непременно узнаешь, что такое страх, уж это точно. Пусть я не могу видеть и ходить, но у меня есть способности, мощь, какой нет почти ни у кого.
— Какая же?
— Мощь разума. Сила воли, которая может заставить физический мир принять любые формы.
— Телекинез?
— Называй это как хочешь. Помнишь, как повсюду вырубилось электричество несколько лет назад?
— Осенью 1965 года?
— Именно. Это я его вырубил. Незадолго до того я потерял зрение, и вот однажды сидел один в этой комнате и проклинал свою злосчастную судьбу. Примерно в пять часов я сказал себе: хочу, чтобы весь мир оказался в такой же тьме, как и я. Не прошло и часа, как весь город остался без света.
— Это могло быть просто совпадением.
— Совпадений не бывает. Это слово произносят лишь невежественные люди. Все в мире основано на законах электричества, и в живом, и в неживом. Даже идеи возникают посредством электрических разрядов. Если разряды достаточно мощны, то человек может мир перевернуть. Запомни это.
— Запомню.
— А ты, Марко Стэнли Фогг, какими возможностями обладаешь ты?
— Насколько я знаю, никакими. У меня обычные человеческие возможности, не более. Я могу есть и спать. Ходить из одного места в другое. Чувствовать боль. Иногда могу даже думать.
— А вести людей за собой? Есть это в тебе?
— Вряд ли. Не думаю, что смог бы заставить кого-либо что-либо сделать.
— Тогда ты жертва. Или то, или это. Или ты действуешь по своей воле, или тебя заставляют действовать.
— Мы все жертвы в определенном смысле, мистер Эффинг. Даже в том смысле, что живем.
— Ты уверен, что живешь? А вдруг ты это себе только воображаешь?
— Все может быть. Возможно, что мы с вами лишь плоды фантазий, а на самом деле нас здесь нет. Что ж, я ничего против такого предложения не имею.
— А ты умеешь держать язык за зубами?
— Если нужно, наверное, справлюсь, как любой другой.
— Какой это любой?
— Любой другой. Так говорят. Я могу разговаривать или молчать, в зависимости от ситуации.
— Если я тебя найму, Фогг, ты, скорее всего, возненавидишь меня. Но только знай, что мои придирки пойдут тебе на пользу. Во всем, что я делаю, есть скрытый смысл, и не тебе о нем судить.
— Постараюсь учесть.
— Хорошо. А теперь подойди-ка сюда, дай я пощупаю твои мускулы. Мне не нужен какой-нибудь слабак, который не сможет возить меня на прогулки по улицам, верно? Если у тебя слабые руки, то на черта ты мне нужен.
В тот же вечер у нас с Циммером был прощальный ужин, а наутро я сложил в рюкзак свои немногочисленные вещички и отправился в центр Нью-Йорка, во владения Эффинга. Так уж судьбе было угодно — целых тринадцать лет с того времени мы с Циммером не виделись. Обстоятельства разлучили нас, и когда наконец я неожиданно столкнулся с ним весной 1982 года на пересечении Вэрик-Стрит и Уэст-Бродвея на Манхэттене, то не сразу узнал его — так сильно он переменился. Циммер поправился фунтов на тридцать, он шел с женой и двумя маленькими сыновьями. Бросилось в глаза, насколько заурядно он выглядит: намечающееся брюшко, редеющие волосы — признак перехода в средний возраст. — умиротворенное, отрешенное лицо приличного семьянина. Мы шли в разных направлениях и уже почти разминулись, как вдруг он окликнул меня по имени.
Может, для других неожиданная встреча с кем-то, кого ты знал в прошлом, и в порядке вещей, но во мне случайное столкновение с Циммером всколыхнуло все забытые впечатления юности. Мне даже не так уж важно было узнать, что он преподает в университете где-то в Калифорнии, что опубликована его монография на четырехстах страницах о французском кино, что он не написал ни одного стихотворения за последние десять с лишним лет. Для меня важно было просто увидеть его. Мы остановились на углу и минут двадцать говорили, вспоминая былые дни, а потом он со своим семейством поспешил туда, куда они направлялись. С тех пор я не видел его и не слышал о нем, но, скорее всего, мысль написать эту книгу впервые пришла ко мне именно тогда, после той нашей встречи четыре года назад, именно в тот момент, когда Циммер смешался с толпой и скрылся из виду.