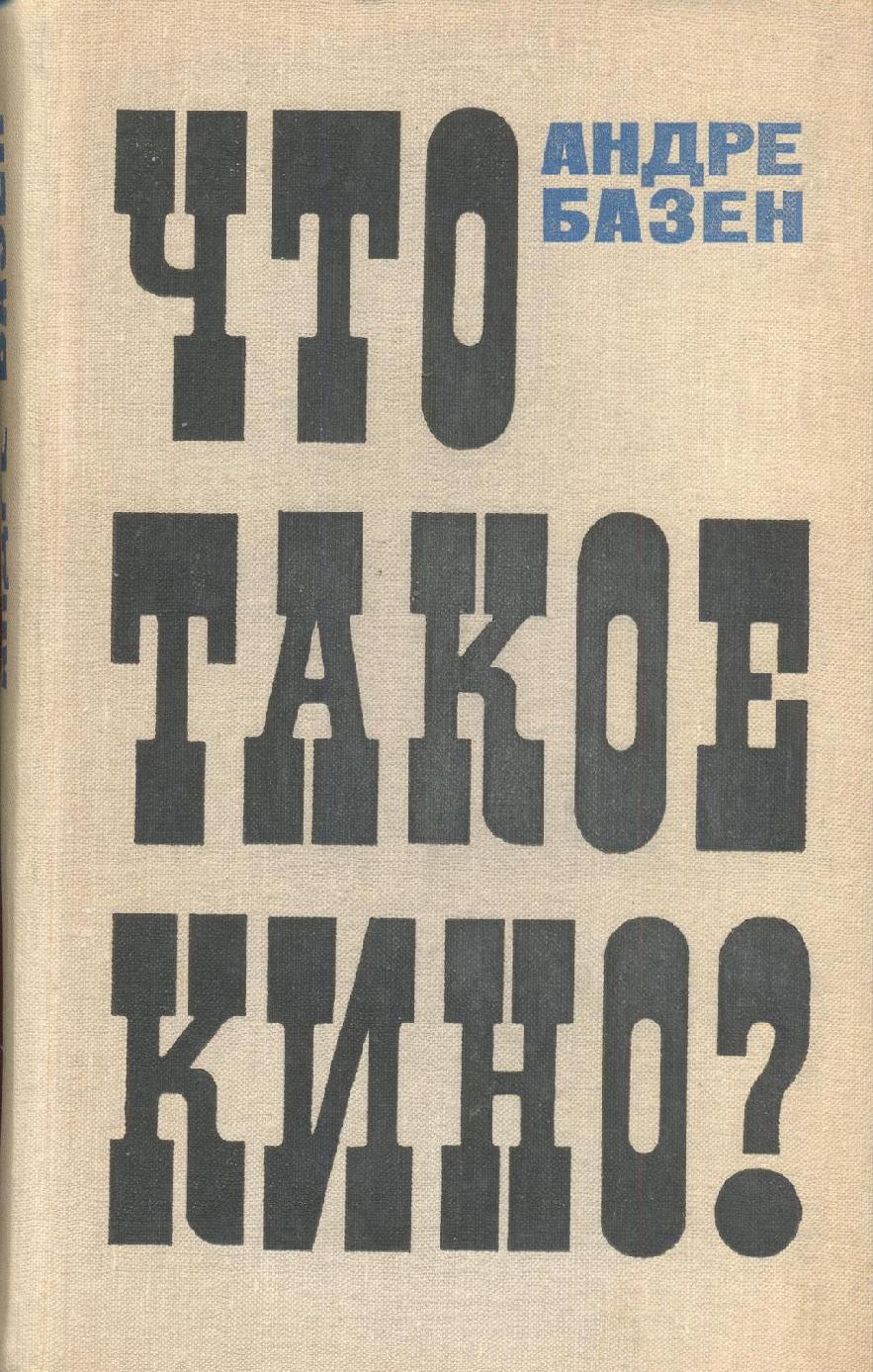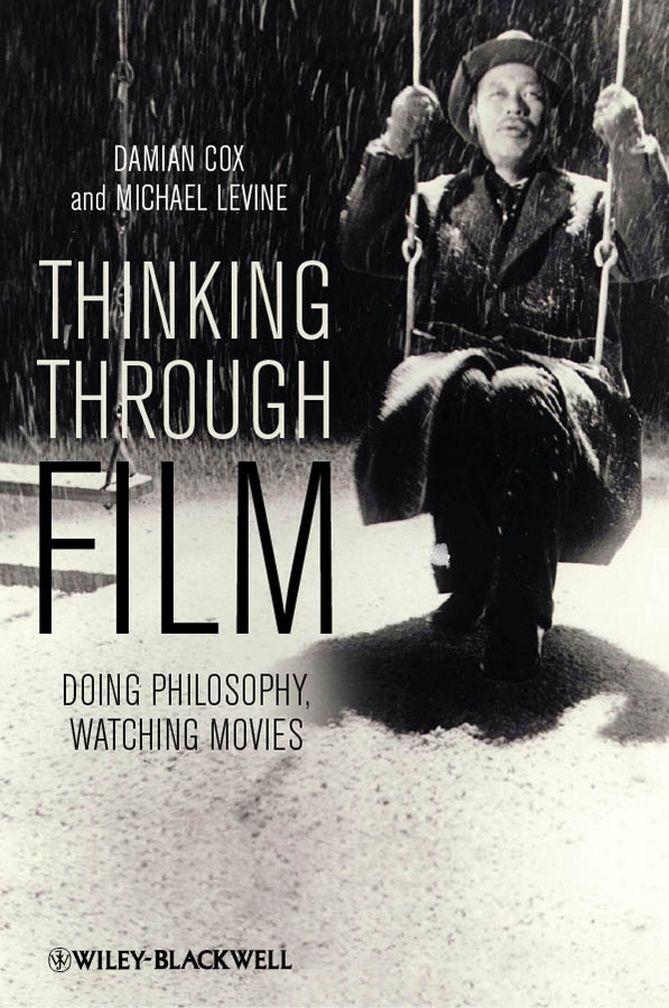не меняет, поскольку визуальная континуальность и фабула – вещи в корне различные, друг с другом никак не связанные.
И всё же титры, которые появляются на месте оставшихся за кадром событий, – это всегда перемычка и по большому счету вынужденная мера, иной раз даже органичная. Другое дело, если это лирическое отступление или диалог, где титры могут нести важную смысловую нагрузку: в нужный момент стать озарением, последней точкой в накаленной до предела атмосфере. Иногда возникает ощущение, будто кадр звучит. И тут ревнителям чистоты стиля я опять готов предложить только музыку: литературные названия коротких пьес Шумана или Дебюсси заметно добавляют поэтического колорита целому и оказывают влияние на его восприятие.
Нередко титры делают мимическую игру актеров еще более утонченной, они как увертюра, сообщающая нам о душевных задатках героев.
Монтаж титров для режиссера – работа нетривиальная и, наверное, по-настоящему непризнанная. Нередко хорошую сцену губят хорошие титры, а всё потому, что введены в самый драматичный момент, после которого наступает затишье, – эпизод «снят», далее следует новый дубль, новая мимическая игра. В кино есть даже специальная техника, позволяющая соотнести слово с говорящим, – по голосу ведь не определить, кому оно принадлежит.
В подаче титров существует еще один, весьма любимый Абелем Гансом, изящный прием – когда значимые кадры получают особое обрамление, при котором мимические сцены выделяются титрами, подобно тому как выделяются в стихотворении важные строфы или получают название особо ценные главы романа. Своеобычность этих титров крепко западает в память и усваивается как эффектная поэтическая цитата.
Послесловие (фрагменты)
Кинематограф называют иллюзией, и, в конце концов, всё и правда только игра света. Свет и тени – инструменты киноискусства, как краски в живописи или звуки в музыке. Мимика и жест, душа, страсти, фантазия… не больше, чем отпечаток. Что нельзя отобразить на пленке, того не будет и в фильме.
О работе оператора
Оператор – художник, ясно осознающий, что он делает. Во-первых, фильм как оптическое искусство должен прежде всего являть отраду для глаз. Во-вторых, любой световой нюанс, любой колорит символичен и выражает определенное настроение, хочет оператор того или нет. Итак, оператор должен хотеть. Если он сознательно отказывается от эффектов освещения и поставляет только ясные, не вызывающие иных толкований кадры, всё происходящее на экране наполняется эдакой суховатой трезвостью, которая придает фильму такой же эмоциональный заряд, какой достигается с помощью эффектов. Искусство не знает ничего усредненного, не знает его и кино.
В фильме можно добиться необычайной пластичности образов, превосходящей иной раз все нормы. Наглядное тому подтверждение довольно часто являют нам американские картины, где столько же электрического заряда, сколько его в играющих мышцах или в округлых формах пышущего здоровьем бутуза. Живительность этих фильмов чрезвычайная, и всякий, кто их смотрит, испытывает физическое наслаждение, как если бы он стоял в лучах сияющего солнца.
Национальный характер фильма ярче всего проявляется в стиле оператора, и это очень характерно. Ведь в технике заложены корни любого стиля.
Американский кинопродукт отличается своей особой, узнаваемой пластикой с присущим ей неунывающим натурализмом. Французское угадывается в рассудительности и трезвой раскладке исполненных драматизма коллизий. Стиль киностудии «Нордиск» особенно знаменателен и эффектен. В манере скандинавских операторов (как и в режиссуре) есть что-то классицистическое: благородная сдержанность в сознательном – не без изящества – отказе от вычурных спецэффектов. Их техника съемки, отточенная до совершенства, исполнена почти аристократической монотонности, сравнимой, пожалуй, с белым стихом классических драм. Эта монотонность роднит все северные фильмы, и ее нет у других.
Немецкий стиль уже сегодня делает ставку на живописные эффекты. Правда, за счет украшения темы, мотива и приведения их в идеальную форму. Оператор-венец колдует над своими лампами и аппаратом, предельно осознавая, что делает, он решителен как никто другой. Лучшие картины венской школы выполнены в стиле живописной романтики. Глубокая перспектива, а в ней вихрь из теней и света (как правило, с темным первым планом и светлым вторым) – словно отголосок венского позднего барокко с его мягким, отдающим бархатистостью пафосом.
Такие фильмы иногда производят эффект передвижной картинной выставки. И тут сокрыт один коварный момент. Изящная самодостаточная структура фильмов создает ощущение, будто ты имеешь дело с некоей стабильной, обращенной внутрь себя материей. И чем это ощущение удивительнее, тем большую самостоятельность она получает, пытаясь отделиться от текущего непрерывным потоком целого.
Нередко в комбинированной съемке именно техническая составляющая во многом определяет залог эстетического успеха. И это не специфика кинематографа. В строительном искусстве, к примеру, любая трудность, с которой удалось справиться, несет в себе известный заряд патетики или по меньшей мере свидетельствует о соприкосновении с возвышенным духом. Хороший трюк чаще всего довершает дело, приводит нас в волнение и воодушевляет, как технически безупречные номера музыканта-виртуоза. Трюк в кино наполняет нас радостью, и это радость осознавшего масштаб своего мастерства.
Цветному фильму – наше почтение!
В самую пору воскликнуть: «Эврика!» – наконец-то и мы увидели море. Увидели вечно изменчивую игру его сине-зеленых красок, белую пену, брызжущую на красно-коричневые рифы.
Наш рейд к цветному морю длился намного дольше, чем описанный Ксенофонтом поход греков; с тех пор как изобрели фотографию, заветная наша мечта – получить ее в цвете. «Достижения» техники, с которыми нам пришлось по пути иметь дело, больше вредили кинематографу, чем оказывали услугу. И поскольку раскрашивались только отдельные кадры (да и те фрагментарно), трудно было избавиться от ощущения, что это игровой эксперимент. Единство стиля утрачивалось, и мы становились свидетелями не новых шагов в уже знакомой сфере, но неуклюжих начинаний в новоиспеченных технологиях.
Нынче цветное кино практически уже утвердилось. Волнение, обуревавшее меня во время просмотра первого цветного фильма, сильно напоминало то, что я испытывал, наблюдая полет первого аэроплана. Мы были современниками и свидетелями прогресса человеческой цивилизации. Чудеса техники в фильме восхищали настолько, что всё художественное оказалось вытесненным на второй план, а некоторые явные технические изъяны и вовсе упущены из виду.
И скепсис, охвативший меня впоследствии, относился даже не к ним. Напротив, мне не давала покоя навязчивая мысль о совершенстве цветного кинематографа. Воспроизведение действительности один к одному не всегда для искусства выгодно. Никто не осмелится утверждать, что выставленные в кабинете восковых фигур экспонаты (столь реалистичные, что непременно вырывается «пардон», случись тебе нечаянно кого-то из них задеть) имеют бо́льшую художественную ценность, чем изваяния из белого мрамора или красновато-коричневые статуи из бронзы. Искусство начинается с редукции. И в однородности серых тонов всем нам привычного фильма, возможно, был для художника шанс.
Я, разумеется, хорошо понимаю, что никакие тревоги не смогут сдержать развития кино в направлении, задаваемом развитием техники. Да и не должны. Но что касается эстетического аспекта, то оснований для опасений тут нет, ведь и живопись с ее