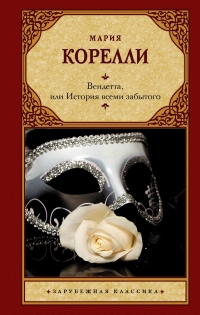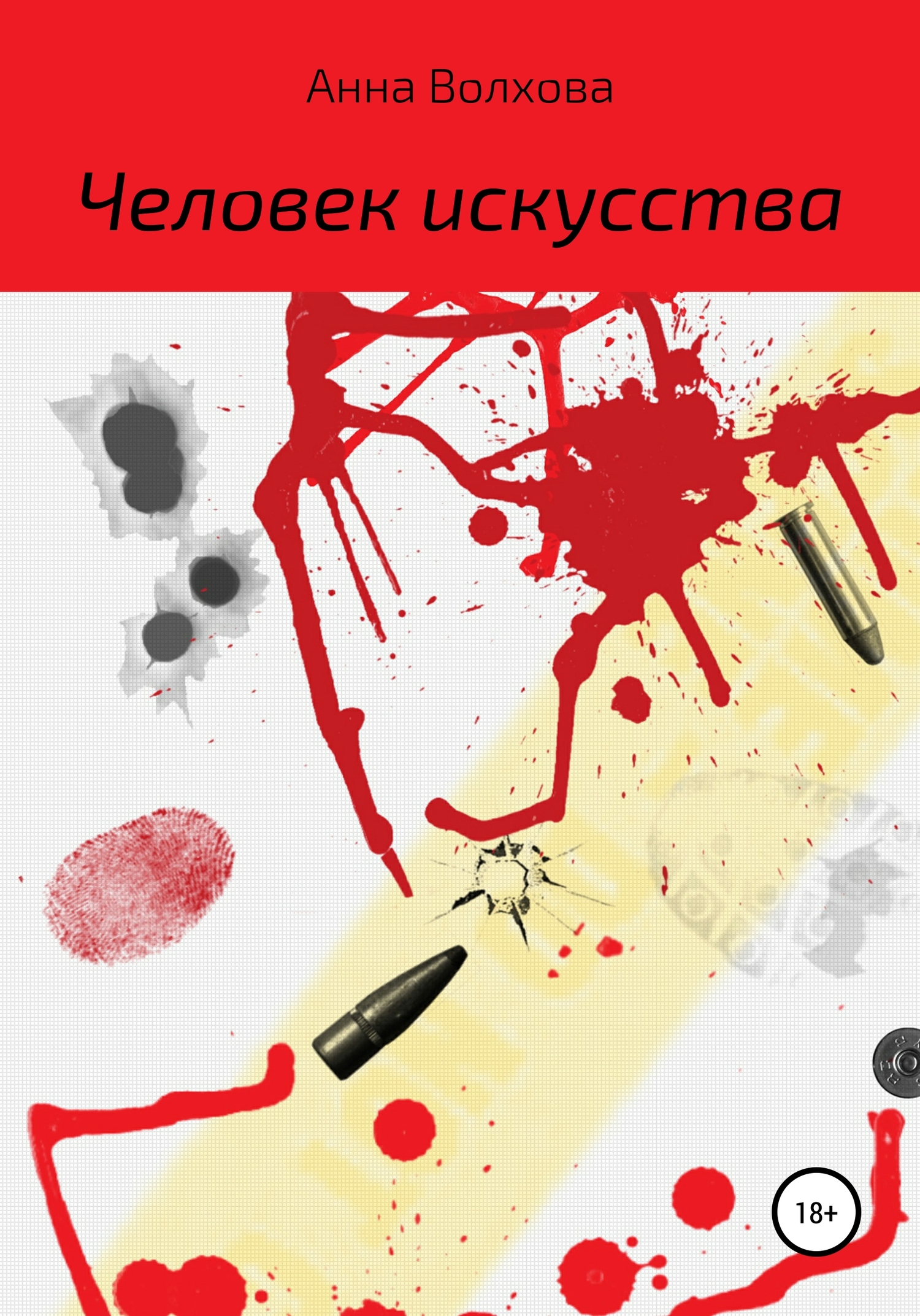любви и, конечно, узнав такие подробности из жизни моего прадеда, не только бы простила его, но и наделила бы романтическим ореолом.
Вторая приоткрывшаяся семейная тайна была социально престижной: во Франции обнаружилась двоюродная сестра моего отца. А вот ее родная сестра, то есть вторая отцовская кузина, проживала в России… на соседней кленовой улице – через несколько домов от моего собственного.
И отец предложил меня с ней познакомить.
– Посмотришь парижские фотографии, – сказал он.
Больше он ничего не добавил и ничего не стал объяснять. Был ли он со своими сестрами знаком с детства и почему я узнала о них не сразу – так и осталось в темноте прошлого, не высвеченное карманным фонариком или светом монитора.
* * *
Хотя расстояние до нужного места было всего лишь с полквартала, мы доехали на машине. Мой отец почти не ходил пешком из-за травмы позвоночника. И здесь ассоциация с Димоном, его нелюбовью к пешей ходьбе и постоянным передвижением только на колесах, конечно, отчетлива, что скрывать… О проекции! Вы везде.
Сталинские тяжелые темно-серые дома – такова была вся соседняя с моей улица, и в таком дворе, закрытом кирпичными стенами с трех сторон, мы и припарковались.
Домофон был сломан, дверь подъезда открыта.
Старый лифт гремел.
Возле двухметровой двери лежал коврик с изображением мопса.
Отец неловко вытер о коврик ноги – и мопс скривился.
Открыла дверь носатая женщина лет сорока. И очень хорошо улыбнулась. И улыбка вдруг сделала ее очень привлекательной: большие, чуть навыкате, глаза осветились светом ироничного и доброго ума. Я догадалась, что это моя троюродная сестра: ее отцом был популярный когда-то актер, давно умерший, но сначала бросивший ее мать и сразу исчезнувший из жизни дочери. Все это она зачем-то рассказала нам, показывая семейный альбом, в котором имелась одна открытка с его изображением: он был сфотографирован в костюме Цезаря, а некоторые фотографии были те же, что в альбоме отца, потом доставшемся мне вместо отцовской дорогой дачи, гаражей и машины – все это справедливо ушло родне его жены, я даже не подала заявления на получение наследства, ведь мне отец подарил квартиру…
Она говорила долго, подробно описывая каждый фотоснимок. А ее мать сидела в соседней комнате и ждала нас.
Наконец альбом был просмотрен, и мы прошли между приоткрытых белых высоких деревянных створок в комнату, как бы служившую гостиной. В кресле у стола с журналом в руках сидела та самая красавица, которую я, тринадцатилетняя, встречала по вечерам в универсаме. Теперь я была тридцатилетней. А ее вполне можно было назвать старой. Но не назвать ее по-прежнему очень красивой было невозможно.
Игра числительных была отмечена краем моего сознания: время точно подмигнуло мне, открыв с помощью всего лишь одного игрового хода вневременной закон подлинной красоты и тут же из моей жизни удалив навсегда – мать и дочь, их большую квартиру с высокими потолками и шлейфом подрагивающих пылинок, пересекающих комнату, где сидела женщина, теперь старуха, снова поразившая меня своим лицом: черты его остались теми же, они словно были вылеплены из глины, которая начала обсыпаться, но вдруг затвердела – уже навечно.
Отец мне потом сообщил мельком, что они переехали в Казань. Почему и к кому, он не знал, да, в общем, причины внезапной перемены их жизни и местожительства его не сильно интересовали: он второй год заливал коньяком страх смерти, которую предчувствовал…
И даже в этом Димон отражал в чуть искривленном зеркале некоторые черты моего отца.
* * *
Но мальчик со сросшимися бровями – моя первая любовь – не походил ни на кого из моих родственников, вообще ни на кого. Его лицо проступило со дна какого-то освещенного чувством и ставшего прозрачным водоема генетической памяти, чтобы, всплыв, погрузиться в него обратно, не вызвав из глубины ни одного своего отражения.
Вспыхнули и погасли только пузыри на воде, только пузыри… В них сверкнули какие-то чужие призрачные лица: девочка, на которую он меня променял, потом его жена с коляской, потом он сам, тоже совершенно уже чужой, с одутловатыми щеками пьющего…
И все исчезло. Его сгубил алкоголь. Но, видимо, перед смертью он вспомнил меня, потому что его лицо – не взрослое, опухшее, а то, полудетское, кареглазое и смеющееся, – вдруг еще раз всплыло со дна озера, поднялось над ним точно воздушный шар, отразившись в воде, и, сделав круг, сверкнув, распалось на брызги и капли.
Исчезло навсегда.
О, сколько лиц исчезает навсегда, только промелькнув в наших судьбах – зачем?
После встречи с красивой женщиной из моего детства, внезапно оказавшейся моей родственницей, меня стал занимать вопрос: прохожие, которых я часто встречаю на своей улице и чьи черты, хотя мы незнакомы, становятся узнаваемыми, случайно ли появились в моей жизни? Или и за ними тянется какой-то тонкий и уже почти невидимый след, который может привести нас в далекое прошлое, в наши давно промелькнувшие жизни, где мы с ними встречались? Или это отсветы генетической памяти и чем-то связаны с ними в их прошлых судьбах были не мы, а наши прапрадеды или прапрабабушки?
Или, задавала я себе вопрос в аэропорту, почему именно этих людей собрала судьба и соединила со мной на четыре часа или на восемь часов в одном самолете?
А может быть, проекции – это всего лишь подсказки судьбы? И освободиться от них означает стереть свою судьбу, превратив ее в чистую белую страницу, которая останется одинокой среди других страниц, заполненных изображениями и словами? И не счастье свободы она принесет, не погружение в нирвану, а всего лишь чувство вселенской пустоты?
Может быть, так и устроен мир, что мы плетем наши судьбы из чужих картинок, для облегчения плетения пользуясь проекциями, – и, как ни странно, получаем свою, ни на кого не похожую гирлянду листьев-лиц?..
* * *
Юлькина неприязнь к Димону имела под собой и кое-что еще: у Димона с ней была короткая связь во время его первого брака.
Я помнила об этом. И Юлька знала, что я помню. Но мы молчаливо условились на эту тему не говорить.
Дело в том, что свое первое образование она получила в хореографическом училище и некоторое время танцевала на сцене – сначала в кордебалете, а потом и ведущие партии. То есть принадлежала к самому ценимому Димоном классу женщин – к балеринам. И наружность ее Димону подходила: очень хорошенькая Юлька была худенькой, много ниже его – я рядом с ней казалась гигантшей.
Но в пору его ухаживаний за ней мы с Димоном хоть и существовали где-то в поле зрения друг друга, но даже не приятельствовали.
Хотя его катания начались как раз с ней. И вовсе не носили такого просто дружеского характера, как наши с ним поездки по области, – нет, с Юлькой у него был, как выразилась она, рассказывая мне о нем как о своем новом любовнике, «балет в машине». Но кто исполнял с ней па-де-де, она сначала не назвала. Их короткая связь открылась мне случайно: сама Юлька позвонила и сообщила, что едет на гастроли во Владик и туда же едет ее вздыхатель.
– Который? – спросила я. – У тебя их много.
– С которым па-де-де в машине, – засмеялась она.
А за день до этого я встретила в редакции журнала, где иногда брала заказы как художник, Димона, который договаривался с главным редактором о командировке во Владивосток, чтобы написать о гастролях балетной труппы «Сфинкс», тогда очень популярной.
– Но для командировки заданьице маловато будет, – возражал главный, – про