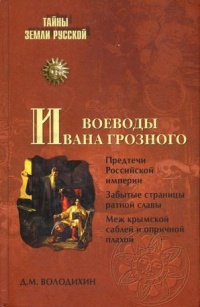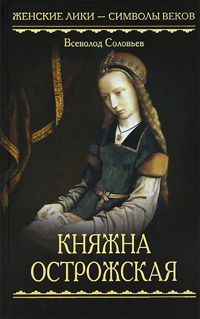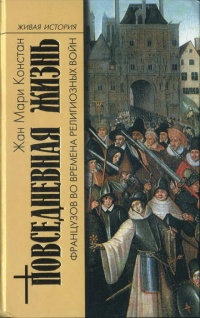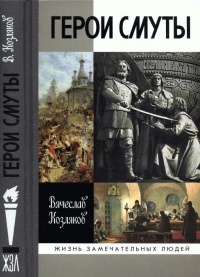яко же и премудростью от господа бога-отца сподобен бяше. Признавайся отцу духовному и брату своему старшему: творил ли ты неподобства бунтарские делом, словом или мыслью тайною, выполнял ли ты лукавства чьего- то наущения злого?..
— Не знаю, пан отче, про что умудрил вас дух святой, паки же удивляюсь намекам на неподобства бунтарские. О чем, бишь, вы, отец святой?
Поп еще больше осмелел. Повернул рукою голову исповедуемого, как горшок на плетне, пристально глянул в самые его зрачки:
— Молотком угрожал?
— Грешен, пан отче.
— Кому?
— Себе, своей грешной душе, да молодой жене: путается, думаю, с кем-нибудь, не вянуть же такому зелью в разлуке с мужем… Грехи наши, отче, тяжки, что и говорить, но мало мы понимаем в этом. Дернуло же меня провиниться перед паном дозорцем, вырубить в вольном, диком лесу два дубка…
— Не в тех грехах исповедуешься, брат Матвей, сугубо тем согрешая. К какому бунту ты подговаривал в кузнях? От кого воспринял наущение это дьявольское? Признавайся, раб божий, мы тут свои, украинцы… Известно ли всем, кто слушал эти наущения, какую кару примете вы за это от господа бога?..
Вдруг Демьян Наливайко умолк.
Догадки Матвея Шаулы оправдались. Он поднял на отца Демьяна глаза и, упершись обеими руками в кованое серебро нового острожского евангелия, медленно встал с колен. Потом заговорил, вперив каменный взор в попа:
— Пан отче! Веру христову принимал я как волю души моей. Того же, что вера становится и судьею мирских дел народа, не знал ни я, ни другие православные. О том, что говорено в кузнях, узнаю лишь сейчас от премудрости духа святого, такого доверчивого к вам. Для чего же и спрашиваете, да еще в храме божьем? Или хотите сделать меня отступником, предать мирское дело наущаете? Этого вам не удастся, напрасный труд. Ни слова о том не узнаете, отец духовный.
— Не узнаю?
— Нет, пан поп! Да и вам… мой христово-братский совет: не трогать кузнецов, не подслушивать, о чем говорит мир. Весна, пан поп: народ пробуждается, закипает гневом. Да умудрит вас тот же господа бога дух на мирное восприятие этой истины, тогда лучше себя чувствовать будете, вот что… Прощайте.
Поп был настолько ошарашен дерзким поведением православного, что у него отнялся язык. Он смотрел вслед уходившему кузнецу, мысленно открещиваясь от него, как от сатаны, и не мог найти слов, чтобы остановить его и как-нибудь пристойно закончить исповедь.
2
Острожский ждал ректора своей школы и мыслями был весь в предстоящей спокойной беседе с ним. Школа, с тех пор как ею стал руководить Иероним Смотрицкий, нисколько не волновала, а, наоборот, лишь радовала старого воеводу. Смотрицкий помогал старику и в работе по типографии. Беседа со Смотрицким, к которому он чувствовал доверие за полное единомыслие во взглядах на внешнюю и внутреннюю политику, была своеобразным отдыхом для князя, озабоченного смутами в стране.
Острожский ждал Смотрицкого, но в комнату вошел отец Демьян.
— А, отче Демьян! Это вы? — притворился приятно удивленным воевода, а по лицу его мелькнула тень недовольства: старик не любил, когда посетители врывались к нему непрошеными, в то время, как он ждал других.
— Да, это я, вельможный князь. Важные и страшные дела вынудили прийти и обеспокоить вашу милость.
Воевода сел в свое сафьяновое кресло. Верный помощник князя в печатании библии, поп Демьян чем далее, тем все смелей становился в своих советах князю.
— Справили? — меланхолически спросил князь.
— Службу божью, вельможный князь?
— Не посиделки же, пан отче. Службу божью, спрашиваю, справили в цеховой церкви за верхним мостком?
Отец Демьян понял, что воевода нервничает. Поп сел и сложил руки крестом, не как духовник перед своим исповедником, а как грешник перед духовником. Час его натиска на волю князя еще впереди.
— Ну? — не терпелось князю.
— Вельможный князь! Прошу спокойно и… внимательно выслушать меня. Гончары за речкой, кузнецы, чернь безродная опять готовятся устроить бунт. Всем стало известно, что Вишневецкий предательски убил в Черкассах Косинского.
— Ну и что же, пан отче: справьте им тризну по Косинском, а если хотят отомстить за него, пусть ищут Вишневецкого в Черкассах или в Лубнах.
— Не во-время шутить изволите, князь. Не Вишневецкого, а нас первых собираются грабить. С того времени, как скрылся брат Северин…
Острожский поднялся с кресла:
— Лучше бы вы позаботились, пан отче, о розысках сотника гусаров Северина Наливайко, чем выведывать, к каким бунтам готовится чернь. Известно об этом мне, новость уже устарела. А вот слыхали вы кое о чем не менее страшном, чем эти бунты повес? Скарга-Повенский прислал письмо: такую ли еще смуту затевает он этим униатством, действуя через сына моего Януша? Проповеди сего ксендза да авантюры канцлера Яна Замойского стали кровным делом моего родного сына и, может быть, его жены — этой новоявленной амазонки в славном роду князей Острожских… О, пан отче, это такой бунт, потушить который будет куда труднее, чем бунт несчастных хлопов.
Попа не так удивила угроза униатства, как равнодушие воеводы к смуте крестьян. Он встал со скамьи, на язык просились слова протеста. Ведь Брацлавское воеводство долгое время считалось самым спокойным среди воеводств, и это приписывалось стараниям и бдительности не только самого воеводы, ревнителя православия, но и предусмотрительности отца Демьяна.
— Поймите, отец Демьян, что хлопского бунта нам сейчас уже не потушить ни законами, ни мечом кровавым, как мы это сделали с Косинским. Потому что поднимается сила сырой земли. Вы моложе меня и саблю еще удержите в руке, но и она понадобится вам не против бунтарей, а… может быть, сообща и рядом с ними.
— Не понимаю, вельможный князь, не соображу: как это сообща с ними? Они поднимаются против своего господина, а я ему служу душой и разумом, кроме того, что охраняю законы церкви.
— Ваш разум, отче, как кусок кожи на огне, скрутился с испуга при одном слове «бунтари». Садитесь и слушайте.
Но поп не сел. Задетое самолюбие подстрекало его оставить князя и выйти вон. Уйти не только из этого патриархально-грозного покоя, а совсем из Острога, от рода Острожских. Разве нет у него друзей в Киевском старостате, во Львовском, у патриарха константинопольского? Но его удержало любопытство, желание узнать, что еще могло взбрести в голову старому воеводе. А голову эту, весьма еще способную на удачные выдумки, он знал.
Острожский будто и не заметил обиды попа. Заложив за спину руки, он ходил по комнате, широкоплечий, казалось, и не согбенный старостью. Откуда-то из угла оглянулся, — белая выхоленная