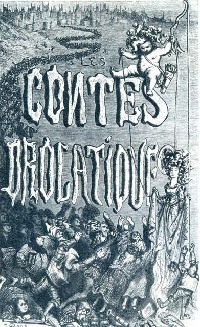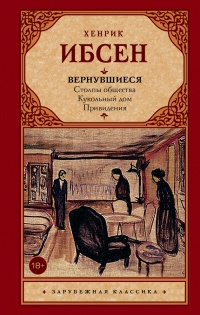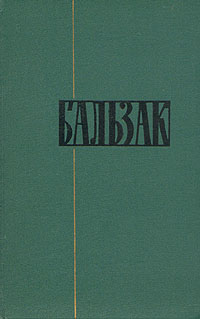«Лионель, Лионель, это я… твоя мать, твоя сестра…»
Проклятые имена для несчастного, они вызывают в его памяти лишь страшные слова: прелюбодеяние, кровосмешение, убийство.
В ужасе и панике Лионель сдавливает бока своей горячей кобылицы, которая вырывается с удивительной скоростью, ее тонкие и легкие ноги стелются по земле, а губы играют удилами, которые выпали из ослабевших рук Лионеля. Тут же мощные и тяжелые жеребцы возобновляют свою дикую скачку. Их широкие копыта стучат по дороге как молоты сотни кузнецов. Кажется, кобылица прислушивается к их ржанию, убегает от них, затем поджидает, тоже ржет, замедляет свой полет и позволяет приблизиться одному. Лионель оборачивается и видит Аликс, запыхавшуюся и обезумевшую, – она протягивает к нему руки и исчезает, унесенная своим скакуном. Кобылица останавливается. Другой скакун проносится совсем рядом. Лионель отворачивается и зажмуривается, чтобы ничего не видеть, но чувствует, как его толкает труп брата, он болтается из стороны в сторону и бьется о бока жеребца, который проносит его дальше. Лионель хочет бежать, он рычит, беснуется, но чувствует, как его горло сдавливают две теплые от крови руки: то мать Эрмессинда, которая говорит ему:
«Лионель, спаси меня, спаси!»
Он отталкивает ее и с яростью стегает резвую кобылицу: та бежит, но распалившийся жеребец, несущий Эрмессинду, не отстает, кусает ноздри лошади, прижимается к ее бокам и несется так же быстро, как она, и окровавленные руки матери-прелюбодейки не отпускают шею сына-кровосмесителя. Тогда Лионель в бешеном усилии снова пришпоривает свою кобылицу, раздирает ей в кровь бока, подгоняет криками, обгоняет всех скакунов, которые преследуют его, и вырывается наконец из судорожных объятий призрака, но слышит крик Эрмессинды:
«О! Будь ты проклят!»
Несчастный, рассудок покидает его, он останавливается на этот крик и оборачивается к призраку, который кричит голосом его матери и проклинает его, но тут Жерар и Аликс начинают кружить вокруг него, их лошади встают на дыбы и угрожают ему копытами. Он снова пускается вскачь, пригибается к шее своей кобылицы и закрывает глаза, тут Аликс снова догоняет его, наклоняется к нему, прижимается и произносит, задыхаясь, голосом тихим и прерывистым, как будто хочет сказать что-то только для него:
«Лионель, это я… Лионель, это я… Аликс, которую ты любишь!»
И когда он отбивается от нее, чтобы освободиться от жутких объятий, она добавляет с отчаянием, пытаясь смягчить его сердце:
«Это я… Твоя сестра…»
Для Лионеля это кровосмешение, прелюбодеяние и убийство скачут бок о бок с ним, как пригвожденные дьяволом к его бокам.
Тогда, потерянный, завороженный ужасом, он бежит, бежит, бежит, но пылкие жеребцы преследуют его, не отставая, испуганная кобылица, не зная куда бежать, без конца скачет вокруг холма, на вершине которого горит замок, и Лионель видит на главной башне высокую фигуру Хьюго, который медленно поворачивается, следя глазами за ним, как вращающаяся статуя.
Целый час эта жуткая кавалькада кружилась вокруг пожарища среди рычащего ветра, среди молний, которые пронзали ослепительным светом красные от огня тучи, среди ударов грома, которые смешивались с грохотом рушащегося замка и дикого ржания лошадей. Борьба была по-прежнему утомительной, яростной и устрашающей, пока Лионель, исторгая страшные проклятия, не призвал на помощь все силы мира, и когда никто не пришел ему на помощь, он призвал силы ада, и они ответили.
Именно тогда он в исступлении и ужасе отдал Сатане себя и весь свой род до тех пор, пока не найдется среди его потомков праведника, способного разорвать этот адский договор.
Говорят, что сверхчеловеческое существо на огненном коне увлекло за собой кобылицу и тихо говорило с несчастным, уводя его в поля, затем, когда договор был заключен и Лионель подтвердил его, сбросив в грязь свои шпоры, плюнув на повстречавшийся крест и оросив шпагу кровью матери, кобылица остановилась без сил, а жеребцы, которые по-прежнему преследовали ее, рухнули рядом.
Когда Лионель пришел в себя, его мать уже скончалась, но Аликс была еще жива.
VI
Превращения
Луицци слушал ужасную историю, душа его похолодела, лицо побледнело, даже поэта захватил зловещий голос рассказчика, но в этот момент он очнулся и спросил Дьявола:
– Как, сударь, Аликс не погибла?
– Нет, ведь ей было суждено дать жизнь первенцу в этом роду, замешанном на прелюбодеянии и кровосмешении, сыну Лионеля, внуку генуэзца Цицули.
– А! Понятно, – сказал поэт, – в самом деле вы правы, баллада нуждалась в развязке. Я говорю баллада, поскольку, как вы понимаете, подобная развязка невозможна в театре, разве что у Франкони. А слышно ли что-нибудь еще в истории края о семействе де Рокмюр?
– Нет, их род угас вместе с Хьюго и Жераром.
– А с этим Лионелем или его сыном, с ними ничего не сделали?
– Говорят, – ответил Дьявол, – что в этой скачке они перенеслись меньше чем за час в самое сердце Лангедока.
– Значит, Рокмюры есть в Лангедоке?
– Не думаю, так как сын Лионеля согласно договору с Дьяволом должен был взять фамилию деда, составив себе имя из ее букв.
– И что это за имя?
– Подумайте, что можно придумать из Цицули.
Луицци в ужасе от услышанной истории и от того, что в результате этой беспощадной борьбы Лионель стал его предком, вскричал почти непроизвольно:
– Нет, нет, в Лангедоке нет ничего похожего на эту фамилию.
– Прошу прощения, – возразил рассказчик, – но одно имя все-таки есть. И если господин, который любит живописные истории, доберется до Тулузы, то я бы посоветовал ему заглянуть в публичную библиотеку. Там, в уголке, налево от входа, в самой глубине полки, он найдет небольшую рукопись на провансальском языке. Его звали…
– Какая разница, как его звали? – живо прервал Дьявола Луицци. – Что стало с этим сыном Лионеля?
– В соответствии с договором с Дьяволом у него было десять лет, чтобы выбрать то, что принесло бы ему счастье и избавило от проклятия.
– И что же он выбрал?
– Ничего, пустился по воле волн – богатый и беззаботный авантюрист, он опомнился, когда десять лет уже прошли и у него уже не осталось времени.
При этих словах Луицци содрогнулся и, повинуясь снедавшим его страхам, воскликнул, как будто только что проснулся:
– Какое сегодня число?
– Первое сентября тысяча восемьсот тридцать…
– Три месяца! У меня только три месяца, – пробормотал Луицци.
Он погрузился в тяжкие раздумья. Только три месяца, чтобы выбрать, разве этого мало, чтобы узнать мир, пусть не на собственном опыте, но хотя бы из рассказов Сатаны?
Тем временем поэт и его попутчик, как два модных литератора, продолжали обсуждать, нельзя ли извлечь из этой истории какую-нибудь драму или водевиль.