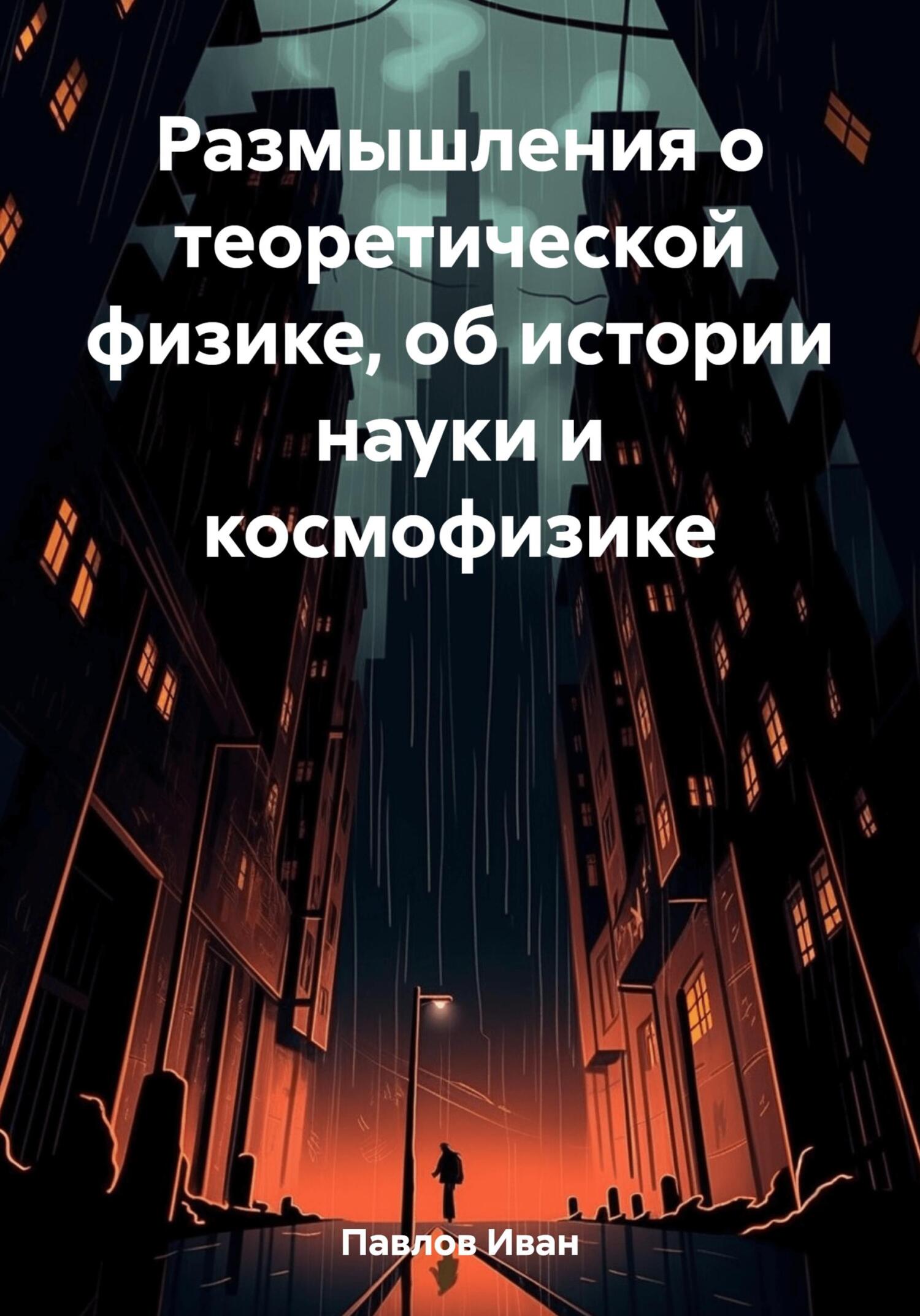Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 74
затрагивало вопроса о сопротивлении эфирной среды, и ввести это сопротивление в его теорию оказалось чрезвычайно трудно. В результате получилось, что целый ряд ранее осуществлённых наблюдений, направленных на то, чтобы обнаружить «эфирный ветер», указывал на аномалию. Поэтому период после 1890 года был отмечен долгой серией попыток — как экспериментальных, так и теоретических — определить движение относительно эфира и внедрить в теорию Максвелла представление о сопротивлении эфира. Экспериментальные исследования были сплошь безуспешными, хотя некоторые учёные сочли результаты неопределёнными. Что же касается теоретических попыток, то они дали ряд многообещающих импульсов, особенно исследования Лоренца и Фицджеральда, но в то же время они вскрыли и другие трудности; в конечном итоге произошло точно такое же умножение теорий, которое, как мы обнаружили ранее, сопутствует кризису[80]. Всё это противоречит утверждениям историков, что специальная теория относительности Эйнштейна возникла в 1905 году.
Эти три примера почти полностью типичны. В каждом случае новая теория возникла только после резко выраженных неудач в деятельности по нормальному решению проблем. Более того, за исключением примера со становлением гелиоцентрической теории Коперника, где внешние по отношению к науке факторы играли особенно большую роль, указанные неудачи и умножение теорий, которые являются симптомом близкого крушения прежней парадигмы, длились не более чем десяток или два десятка лет до формулировки новой теории. Новая теория предстаёт как непосредственная реакция на кризис. Заметим также, хотя это, может быть, и не столь типично, что проблемы, по отношению к которым отмечается начало кризиса, бывают все именно такого типа, который давно уже был осознан. Предшествующая практика нормальной науки дала все основания считать их решёнными или почти решёнными. И это помогает объяснить, почему чувство неудачи, когда оно наступает, бывает столь острым. Неудача с новым видом проблем часто разочаровывает, но никогда не удивляет. Ни проблемы, ни головоломки не решаются, как правило, с первой попытки. Наконец, всем этим примерам свойствен ещё один признак, который подчёркивает важную роль кризисов: разрешение кризиса в каждом из них было, по крайней мере частично, предвосхищено в течение периода, когда в соответствующей науке не было никакого кризиса, но при отсутствии кризиса эти предвосхищения игнорировались.
Единственное полное предвосхищение, которое в то же время и наиболее известно, — предвосхищение Коперника Аристархом в III веке до н. э. Часто говорят, что если бы греческая наука была менее дедуктивной и меньше придерживалась догм, то гелиоцентрическая астрономия могла начать своё развитие на восемнадцать веков раньше, чем это произошло на самом деле[81]. Но говорить так — значит игнорировать весь исторический контекст данного события. Когда было высказано предположение Аристарха, значительно более приемлемая геоцентрическая система удовлетворяла всем нуждам, для которых могла бы предположительно понадобиться гелиоцентрическая система. В целом развитие птолемеевской астрономии, и её триумф и её падение, происходит после выдвижения Аристархом своей идеи. Кроме того, не было очевидных оснований для принятия идеи Аристарха всерьёз. Даже более тщательно разработанный проект Коперника не был ни более простым, ни более точным, нежели система Птолемея. Достоверные проверки с помощью наблюдения, как мы увидим более ясно далее, не обеспечивали никакой основы для выбора между ними. При этих обстоятельствах одним из факторов, который привёл астрономов к коперниканской теории (и который не мог в своё время привести их к идее Аристарха), явился осознаваемый кризис, которым в первую очередь было обусловлено создание новой теории. Астрономия Птолемея не решила своих проблем, и настало время предоставить шанс конкурирующей теории. Два других наших примера не обнаруживают столь же полных предвосхищений, однако несомненно, что одна из причин, в силу которых теории горения, объясняемого поглощением кислорода из атмосферы (развитые в XVII веке Реем, Гуком и Майовом), не получили достаточного распространения, состояла в том, что они не устанавливали никакой связи с проблемами нормальной научной практики, представляющими трудности[82]. И то, что учёные XVIII—XIX веков долго пренебрегали критикой Ньютона со стороны релятивистски настроенных авторов, в значительной степени связано с подобной неспособностью к сопоставлению различных точек зрения.
Философы науки неоднократно показывали, что на одном и том же наборе данных всегда можно возвести более чем один теоретический конструкт. История науки свидетельствует, что, особенно на ранних стадиях развития новой парадигмы, не очень трудно создавать такие альтернативы. Но подобное изобретение альтернатив — это как раз то средство, к которому учёные, исключая периоды допарадигмальной стадии их научного развития и весьма специальных случаев в течение их последующей эволюции, прибегают редко. До тех пор пока средства, представляемые парадигмой, позволяют успешно решать проблемы, порождаемые ею, наука продвигается наиболее успешно и проникает на самый глубокий уровень явлений, уверенно используя эти средства. Причина этого ясна. Как и в производстве, в науке смена инструментов — крайняя мера, к которой прибегают лишь в случае действительной необходимости. Значение кризисов заключается именно в том, что они говорят о своевременности смены инструментов.
VIII
Реакция на кризис
Допустим теперь, что кризисы являются необходимой предпосылкой возникновения новых теорий, и посмотрим затем, как учёные реагируют на их существование. Частичный ответ, столь же очевидный, сколь и важный, можно получить, рассмотрев сначала то, чего учёные никогда не делают, сталкиваясь даже с сильными и продолжительными аномалиями. Хотя они могут с этого момента постепенно терять доверие к прежним теориям и затем задумываться об альтернативах для выхода из кризиса, тем не менее они никогда не отказываются легко от парадигмы, которая ввергла их в кризис. Иными словами, они не рассматривают аномалии как контрпримеры, хотя в словаре философии науки они являются именно таковыми. Частично это наше обобщение представляет собой просто констатацию исторического факта, основывающуюся на примерах, подобных приведённым выше и более пространных, изложенных ниже. В какой-то мере это даёт представление о том, что наше дальнейшее исследование отказа от парадигмы раскроет более полно: достигнув однажды статуса парадигмы, научная теория объявляется недействительной только в том случае, если альтернативный вариант пригоден к тому, чтобы занять её место. Нет ещё ни одного процесса, раскрытого изучением истории научного развития, который в целом напоминал бы методологический стереотип опровержения теории посредством её прямого сопоставления с природой. Это утверждение не означает, что учёные не отказываются от научных теорий или что опыт и эксперимент не важны для такого процесса опровержения. Но это означает (в конечном счёте данный момент будет центральным звеном), что вынесение приговора, которое приводит учёного к отказу от ранее принятой теории, всегда основывается на чём-то большем, нежели сопоставление теории с окружающим нас миром. Решение отказаться от парадигмы всегда
Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 74