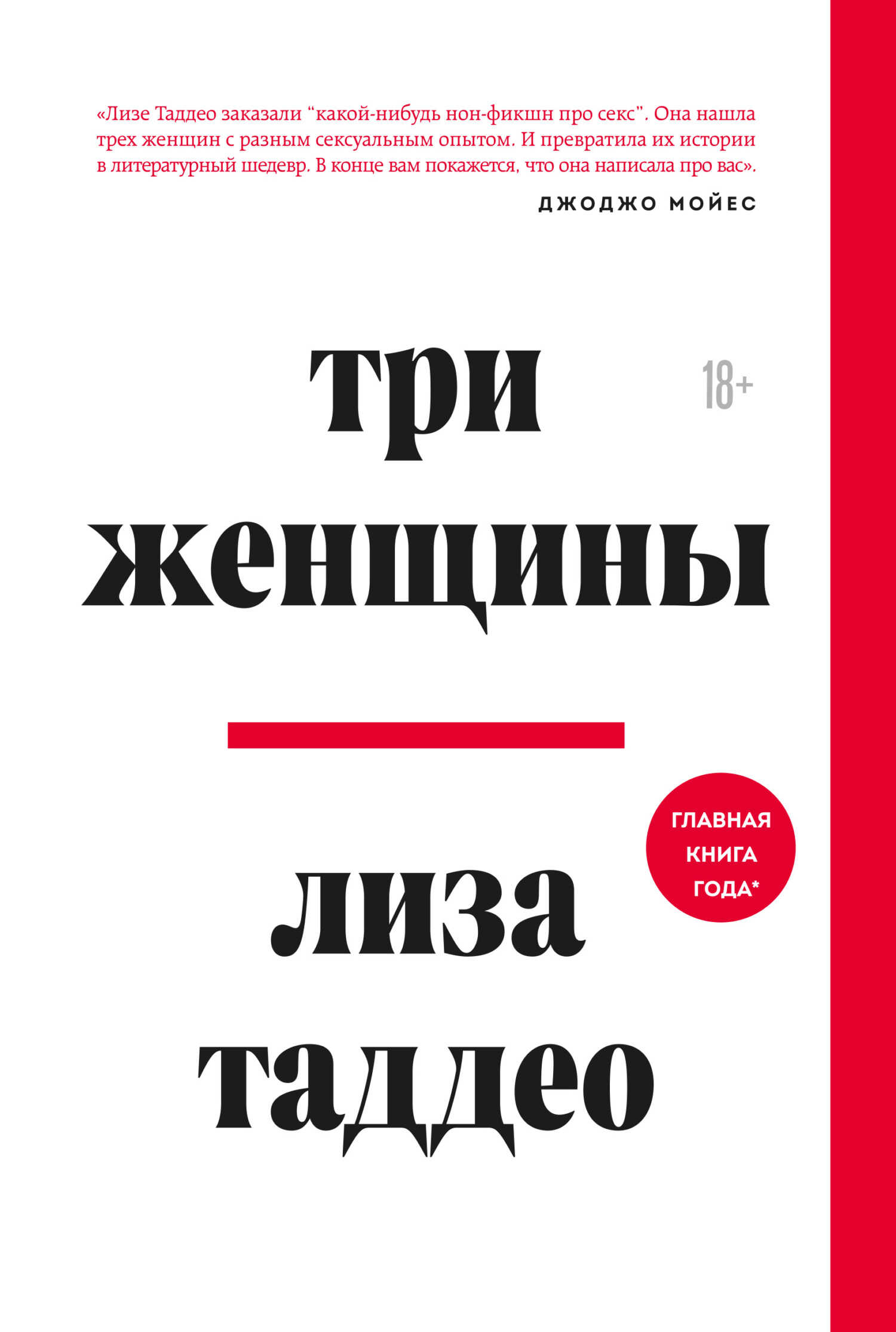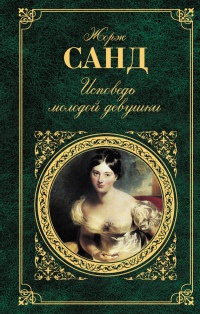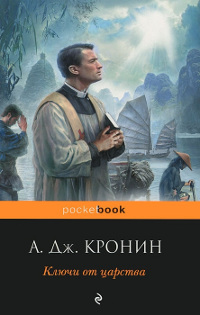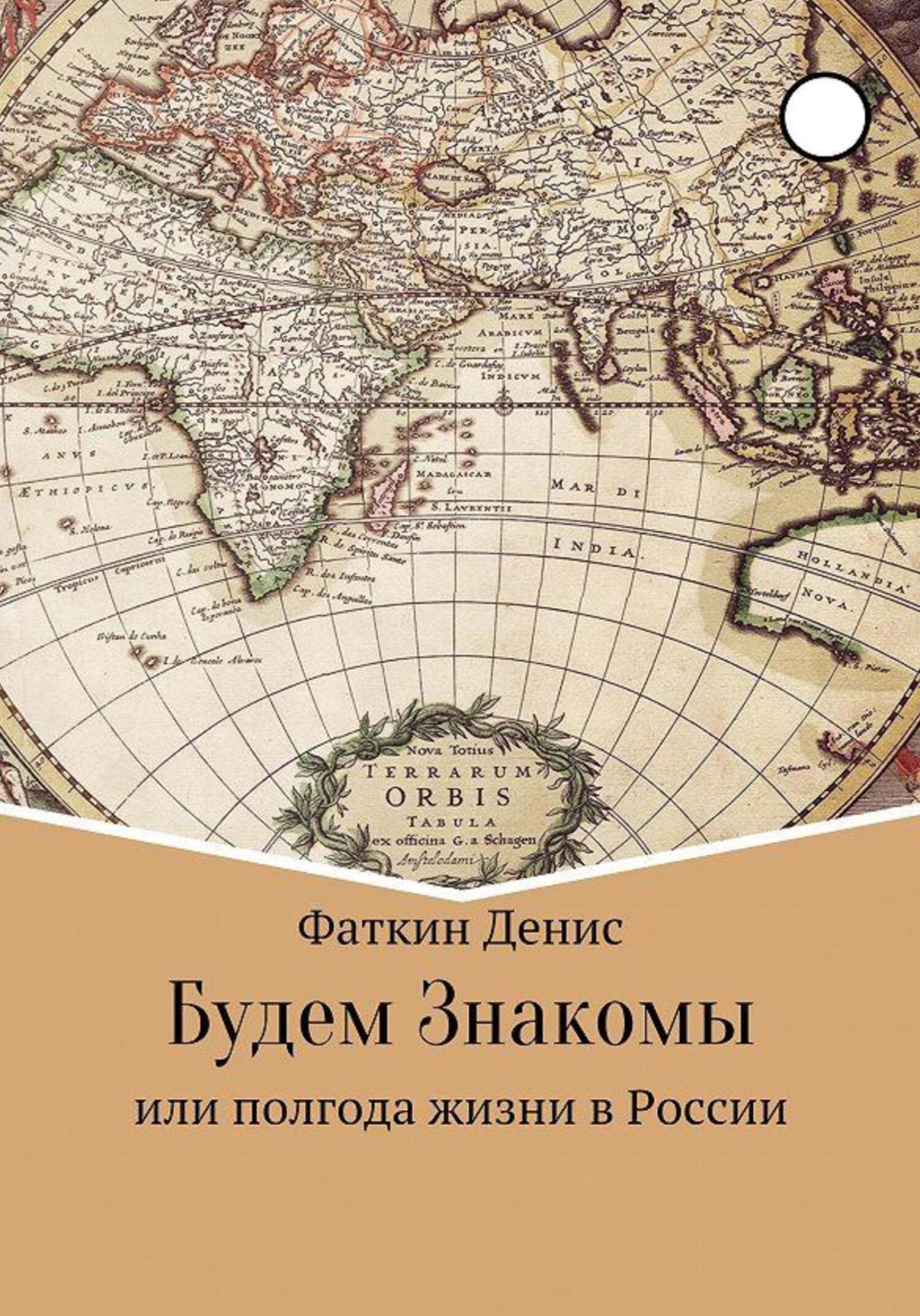смысле, в каком я понимала бы истинную жизнь, если бы верила, что она где‑то существует… кроме как в несуществующих созданиях. Что обнадеживает, утешает и исцеляет — чувство локтя, сокровенная надежда, порождаемая этими соприкосновениями с людьми. Приводит в уныние — глубокая пропасть между революционной силой толпы, готовой на все и способной самостоятельно организовывать свои «эксцессы» и бездарностью, слабоволием вождей и интеллектуалов, считающих все это лишь прискорбными «эксцессами» «люмпен–пролетариата»…
Окраины
пустыри
купающиеся в небесах луга
В голове перемешались
Реки и вина
Москва и Мандзанарес
где это было?
Земля приоткрывается
Все они тут
кто чудом
с радостью делили
ненависть и радость.
В потоках крови утонули детские улыбки
В огне пулеметном смолкли юношеские песни
вера надежда любовь
«спустились в ад».
По ту сторону от
поражений тяжких
опрокинутых побед
искалеченных свобод
смертью возопила война
Все они тут
В кромешной бездне
скалясь над братьями своими
живыми
беды глашатаями
что убиваются над прахом
причитая на могилах.
Скелетов челюсти
хрустят и исторгают
хохот злобный
едва до них доносятся
теней сих облеченных плотью
причитанья.
«Созданья безобразные, уроды
неужто в том ваше проклятье
что места всем под солнцем достает
и что можно пережить и то,
ради чего единственно
вам жизнь достойною казалась?
Все время вне игры:
ведь вы в ладах с собою
и вам не суждено предаться в ослепленье
когда зрачки сверкают, уста пламенеют, нутро горит
благотворной бойне.
У вас по горло дел на кладбищах истории
По горло передумать дум
Несчастной тяжкой головой
По горло слов сказать устами горькими
С коих лишь нелепости слетают
У вас по горло также
Сокровищ расточать
пустыми навечно руками
Созданья безобразные… уроды
вам все еще неведомо
что миг один и тот достоин жизни
вам хочется, чтоб длились чудеса
что нашими стараньями творятся.
Что в жизни вам отпущено
течет песком сквозь пальцы
а вам, застывшим, и дела нет
или в ритме кукол заводных
несетесь гибели своей навстречу
иль продолжаете упорно доверять
вы мудрости своей благой
и ясному рассудку.
Да, ваши слезы — смех да и только
Раз не дано вам впредь
«плуг и лемех вести по костям
мертвецов»
значит вскоре
наш ад спустится на землю:
в хаосе гулком, глухом и сияющем
огонь небесный
комья земляные
лава кипящая
каменья драгоценные
вас в сердце самое сразят
Коррида
Мишелю Лейрису
Дорогие друзья,
Не забудьте, что вы обещали отклик на корриду. Думаете, что можно будет задержать, как с откликами на книгу?
Изрыгнул ли бык всю кровь из своих легких, как это было на моей первой корриде? Запах крови поднимался до самых верхних скамеек, до самых далеких от арены мест, где я сидела между торговцем скотом, который кричал оленьим криком, и утопавшей в слезах девушкой, которую должна была увести оттуда сестра (испанка, между прочим). Это продолжалось очень долго. Невозможно понять, как бык держался на ногах… Как будто его просто рвало. Он так и стоял, пока не начал плавно раскачиваться на четырех ногах… затем передние ноги подогнулись, и он упал на колени в лужу (вершил свою молитву) и наконец завалился на бок. Судя по всему, рана была нанесена слишком неумелой, слишком подлой рукой, и публика это подтвердила или надеялась подтвердить, когда все как один засвистели. В этот миг вдруг переменилась погода, свинцовое небо нависло над клубком змей, я едва успела оставить это место, когда блеснул последний лучик солнца и вот–вот должна была разразиться гроза.
В тот день уж лучше было бы поджечь арены. Может, в прошлое воскресенье все было так же «великолепно»?
ФРАГМЕНТЫ И НАБРОСКИ ЭРОТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Лаура
Однажды вечером они столкнулись на перекрестке, и разом обернувшись, чтобы разглядеть друг друга «по крайней мере, со спины», оказались лицом к лицу.
Взгляды встретились: мужчина требовал, чтобы она подошла, женщина сгорала от желания броситься к нему.
Не двинувшись с места, он сказал, когда она приблизилась: «Я знаю, кто ты — девка, ты дочь, сестра, мать и сука похоти; сделай же, что ты умеешь, мне невтерпеж». Она ответила пощечиной и скрылась.
Но ей вослед раздался смех, повиснув у нее на шее как бубенчик, он и вернул ее… на поводке.
Он так и не двинулся с места, зато сверкал членом в ночи; взяв его в руку, раскачивал справа налево, слева направо, поначалу не особенно стараясь. Она подошла: свободной рукой он ударил ее по лицу, она рухнула на камни мостовой. Когда она попыталась подняться, он плюнул ей в лицо, потребовав, чтобы она осталась лежать. «Здесь тебе и место, тебе к лицу эта грязь вперемешку с лошадиным навозом, поваляйся, как следует». Он был прямо над ней, стоял не сгибаясь, в вышине, его член сверкал в луче света; и она его возжелала, его захотела, а он сказал ей тихим срывающимся голосом: «Ты еще смеешь хотеть, сука ты, трижды сука»; он перешагнул через нее и приказал оставаться меж его раздвинутых ног, которыми предусмотрительно подталкивал ее прямо к сточной трубе, забитой нечистотами. Она так и перекатывалась, прижав руки к телу: с живота на бок, потом на спину, затем обратно, словно в бреду и не видя перед собой ничего кроме раскачивающегося, победоносного, задающего ритм члена. Наконец, она докатилась до тротуара, очутилась в журчащем ручейке грязной воды. Приподнялась: в волосах кишели отбросы, горели безумием глаза, пожелтевший по краям и перепачканный грязью, но по–прежнему жадный рот, и руки — они поднимались, тянулись вверх, белые, полупрозрачные, к этому члену. Сама мольба, само приношение. Он плюнул в приоткрытый рот и впился зубами в пальцы — столь тонкие, что у него во рту они сразу превратились в кашицу из нежных хрящиков. Когда он стал пятиться назад, чтобы она не теряла из виду чудовищного члена, она поползла за ним, поползла на коленях и обрубках кистей.
Он так и пятился, дойдя до громадной романской двери, куда он вошел задом, поднявшись по нескольким ступенькам, и куда она вползла за ним, как побитая сука. Он проник вглубь мрачного помещения, шел по какому‑то узкому коридору, она ползла за ним по пурпуровому ковру,