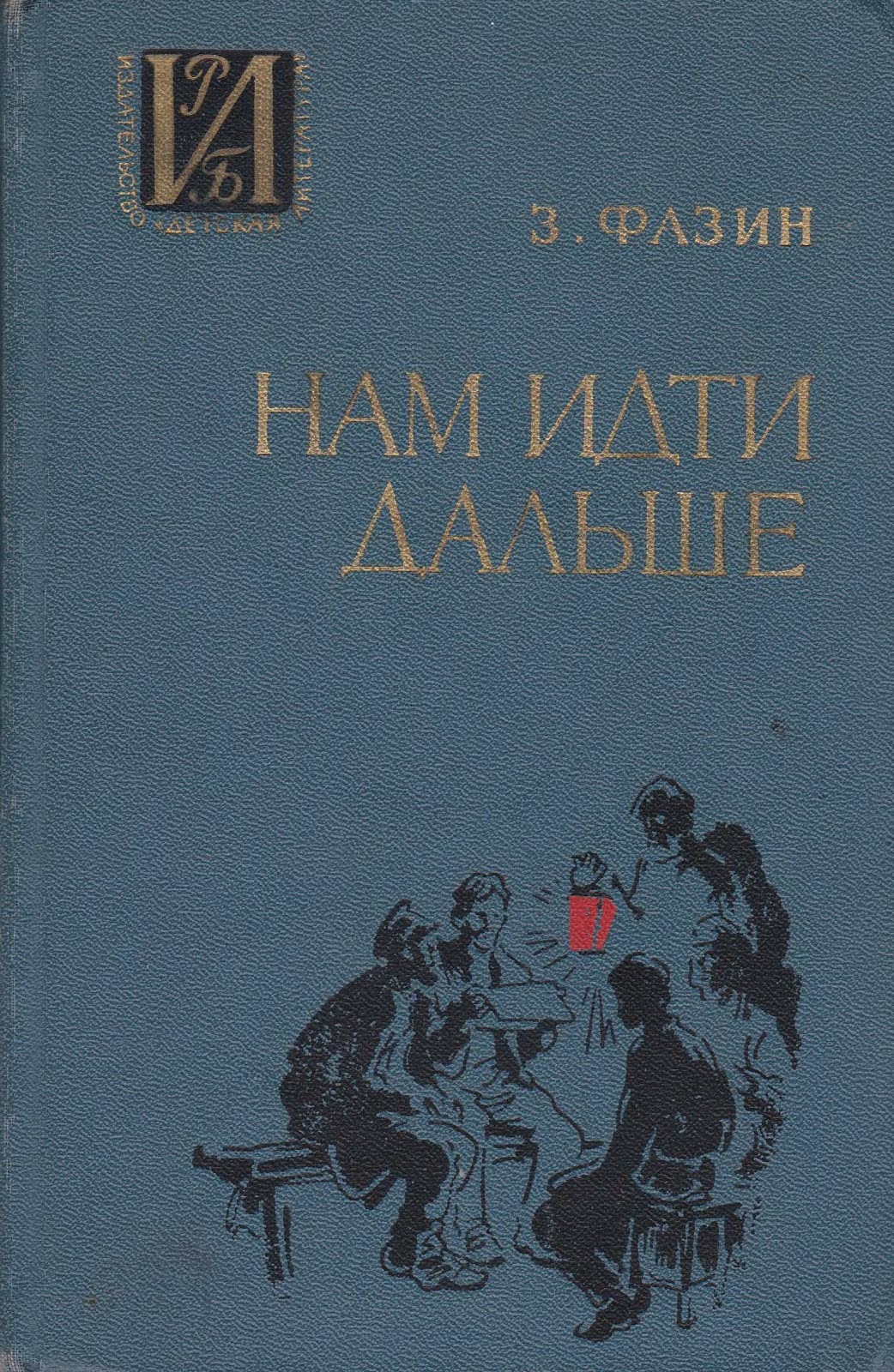И если раньше для кадета Куйбышева красота истории государства Российского была в военных победах, то теперь он увидел ее в революционной неукротимости народа русского — и разгадал его будущее...
Он учил и учился сам, набрасываясь на ленинские работы и понимая их теперь глубже, так как они стали осмыслением некоего великого процесса, засверкали новыми гранями, и неумолимая логика Ленина снова покоряла его, вливая в душу бодрость и уверенность в необходимости всего того, чем заняты Куйбышев и его товарищи.
Жадная тяга к философии, к естествознанию заставляла его часами просиживать у Штернберга, и Павел Карлович широкими мазками рисовал ему мироздание, докапываясь до сути через «Материализм и эмпириокритицизм», делая экскурсы в классическую немецкую философию, с которой Валериан был знаком слабо.
Те философы словно бы умышленно пытались зашифровать простые мысли, сделать их величественно-непонятными. И только прикоснувшись к Марксу, Энгельсу, Ленину, он вдруг ощутил под ногами прочный фундамент. И еще он сделал открытие: те величавые Канты и Гегели избегали полемики, они изрекали, словно бы не замечая своих противников. Приставка «анти» появляется у Энгельса. Ленин — жесточайший и искуснейший полемист; в каждой своей работе, каждой своей строкой он нанизывает противников революционного марксизма, словно зловредных насекомых на булавку. Да, он полемичен каждой своей строкой и беспощаден к врагам: это разящий меч, ужас для отступников, ренегатов, оппортунистов. Ленинская ирония, его сарказм рождали в Куйбышеве стремление быть таким же твердокаменным, несокрушимым, так же свободно и виртуозно владеть словом, ставя его на службу революции.
И даже когда Ильич рассуждает о таких, казалось бы, отвлеченных вещах, как время, пространство, атомы и электроны, материя, он воздает по заслугам идеалистам, которые сразу же превращаются в свихнувшихся пустозвонов. «За гносеологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партий в философии...» — вот где гвоздь всего. Борьба партий. Нет, не отвлеченная полемика, а жесточайшая борьба, за которой стоят классы угнетателей и угнетенных. В сфере интеллектуальной эта борьба становится все более утонченной и изощренной до предела. Воюет, сражается каждый атом. Воюет за раскрепощение духа и за раскрепощение людей вообще.
Вот отсюда и родились слова его песни:
Наслажденье мыслью смелой
Понесем с собою в бой...
Он наслаждался, упивался, чувствовал себя причастным к величайшим тайнам природы.
...В сумерках подъехали к какому-то селению, вернее, к бревенчатым постройкам с покривившимися окнами. В окнах горел свет.
— Тут и есть, — сказал возница.
Валериан сильно постучал. Им открыли сразу, даже не полюбопытствовав, кто пришел в столь поздний час. В клубах пара вошли в избу. Встретил их сухощавый человек с сильно обмороженными щеками. Снял очки. Карие глаза смотрели спокойно, но во взгляде было веселое любопытство. Наконец он, не здороваясь, спросил без всяких предисловий:
— К кому примыкаете: к мекам или бекам?
Куйбышев сбросил малицу, потер озябшие руки.
— А к вам, Яков Михайлович, меки часто наведываются? Куйбышев я. Не признали? А это подарки от «декабристов». И ружьишко просили передать.
— Здравствуйте, дорогой Валериан. А за подарки спасибо.
Они обменялись крепким рукопожатием. Трудно было сказать, обрадовался ли Свердлов его приезду. Он вел себя ровно, приветливо. И только за чаем сказал, словно приходя в себя от некого шока:
— Я бесконечно рад вам. Это даже больше чем радость: все никак не могу поверить, что вы добрались сюда. Вот так по ночам терзают видения: приезжает товарищ, рассказывает о сыне, о жене. Все реально. Чересчур даже реально. А потом — пробуждение. Я, кажется, начинаю сходить с ума...
— Мы добеьмся вашего перевода в Нарым.
— Сомневаюсь. Это очень сложно. А если все-таки откажутся перевести?
— Мы взбунтуемся.
— Глупо.
— Ладно. Тогда попрошу, чтобы меня перевели сюда. Мне ведь все равно где: я сибиряк.
— Ну-ну. Не дури! — неожиданно сказал Свердлов, переходя на «ты». — Лучше расскажи, что у вас там в Нарыме, в мире?
— Привез последние газеты, какие удалось получить, последние работы Ильича, книги — они все ваши! Нам ведь присылают со всех концов России — наладили связь. Даже реакционные издатели присылают.
— Весьма щедро, — сказал Свердлов, извлекая книги из рюкзака. — Да вы совсем разорились!
— У нас теперь подпольная библиотека. Будем по возможности менять, пересылать.
— Спасибо. Хорошо придумано. А еще?
— Вы нам нужны, Яков Михайлович. Мы открыли партийную школу — готовим руководителей организаций.
— Вот это да!
— И парторганизацию создали. Свою, большевистскую. Пришел поставить вас на учет. Готовимся к краевой конференции, где будем выдвигать своих делегатов на Всероссийскую.
Свердлов поднялся с табуретки и взволнованно зашагал по избе.
— Укладывайтесь — устали с дороги, — сказал он. — А я не усну до утра.
— Я тоже не усну. Давайте бодрствовать вместе. Мой ямщик передохнет малость — и в обратный путь.
Оба рассмеялись.
Они так и не сомкнули глаз до утра.
Обратная дорога показалась Валериану намного короче. В целях конспирации возница высадил его в бору. А отсюда дорогу он знал хорошо. Но к своему дому подошел уже в сумерках.
Гей, друзья! Вновь жизнь вскипает...
Буря, буря наступает...
У порога с наслаждением освободился от лыж, удивился, завидев свет в окне своей комнаты.
— Кто-то забрел. Жилин, наверное.
Вошел в комнату и, щурясь от света, который показался ему слишком ярким, увидел пристава Овсянникова и двух полицейских.
— Чем обязан?.. — начал было он. Полицейские схватили его за руки.
— Вы арестованы! — сказал Овсянников.
— Но почему?
— Молчать! Он еще спрашивает почему! — рассвирепел Овсянников. — Партийная школа, тайная организация, коммуна, библиотека!.. Да за одно из этих преступлений надевают кандалы и отправляют на каторгу. Впрочем, в Томске подполковник Лукин вам все объяснит. Засыпались, голубчики. Всех схватили, а вы изволили задержаться. Я уж думал, не смылся ли... В каталажку шагом марш!
Грозный окрик не испугал Валериана, он, словно бы ничего не случилось, спокойно уселся на лавку, высвободив руки рывком.
— Дайте перевести дух с дальней дороги. Я ведь из самого Максимкина Яра! Замерз, проголодался. В ногах — зашпоры.
Это произвело сильное впечатление. Даже большее, чем ожидал Валериан. Овсянников беспомощно развел руками, опустился на табурет.
—