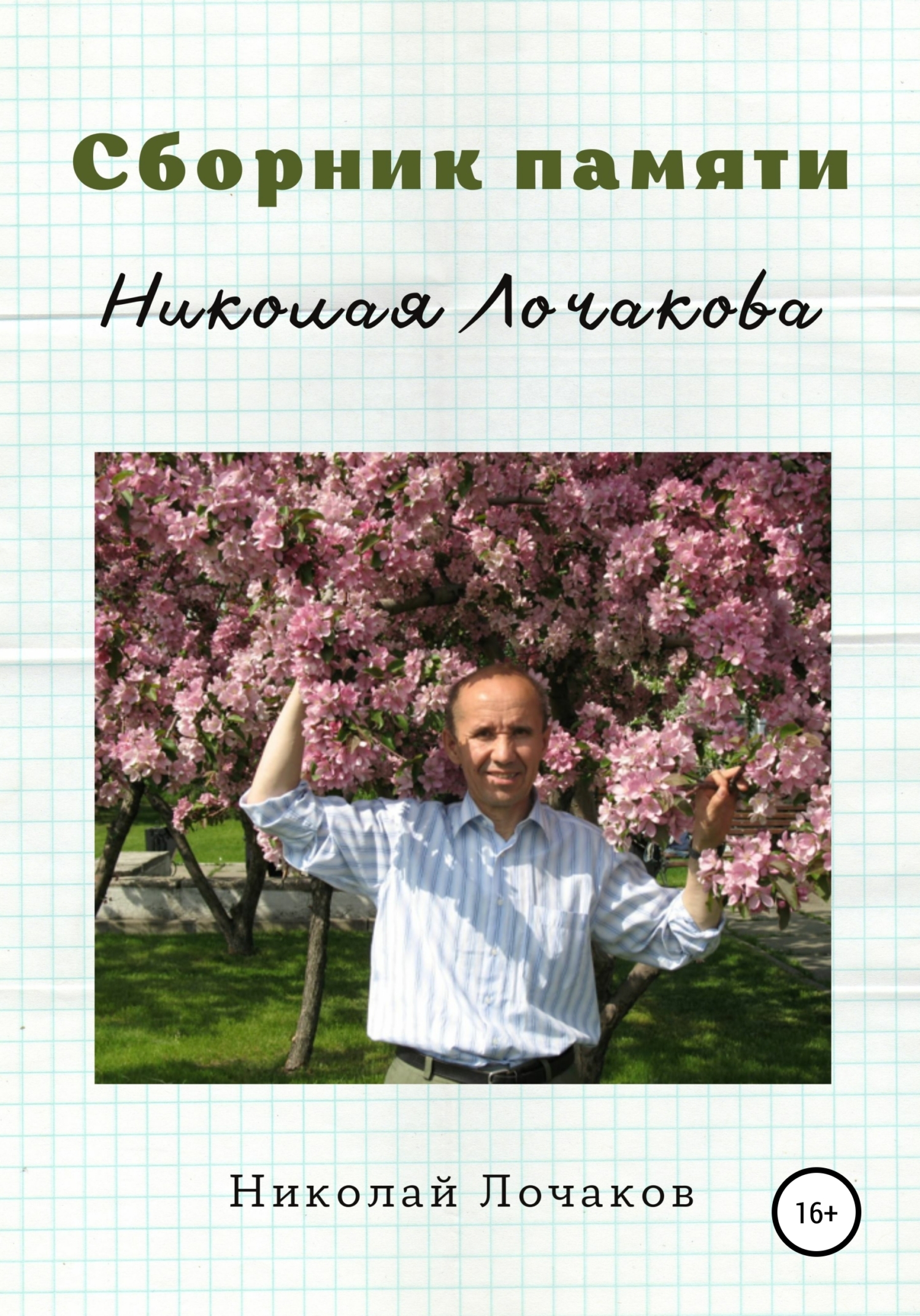а они променяли его на дурацкую сентиментальную привязанность к папе с мамой! Возмутительно! Надеюсь, я буду и в дальнейшем ненавидеть отца, и это чувство у меня не ослабеет. В нем оно не ослабело. До последнего дня он отказывал мне в своей любви. Считал, что я ее недостойна. Вот какой урок он мне дал, и я этот урок усвоила. Если я перестану ненавидеть отца, что во мне от него останется? Ненависть – это то, что он мне завещал. И я должна быть достойной такого наследства. Можешь положиться на меня, Усейну Кумах. Можешь рассчитывать на мою ненависть, отец: ее хватит надолго.
Как бы отвечая дочери, лежащий на диване Усейну Кумах зашелся в приступе кашля. Он не успел взять плевательницу, и вылетевший из его рта красноватый сгусток мокроты плюхнулся к ногам Сиги Д. Она не шелохнулась и продолжала:
– «Ты, наверное, думаешь, что я не люблю тебя за то, что ты отняла жизнь у своей матери», – сказал он мне. И я действительно так думала, Диеган. Отец очень рано объяснил мне, что я должна относиться к Мам Куре, Йайе Нгоне и Та Диб как к матерям, но ни одна из них не была мне матерью: та, что произвела меня на свет, умерла через несколько минут после моего рождения. Он сказал мне это холодным, осуждающим тоном. Мне тогда было шесть лет, и я подумала: если он меня не любит, если он меня наказывает, если он не разговаривает со мной, держится со мной не так, как с другими своими многочисленными детьми, то потому, что я забрала жизнь моей матери. Мне было мало моей собственной. Понадобилась еще жизнь мамы. Я ухватилась за это объяснение, и долгие годы мне было его достаточно. Возможно, оно было слишком жестоким, зато простым и правдоподобным, если нужно было оправдать его отстраненность, его суровость в отношении меня, непонятный отказ участвовать в моих детских играх, в моих детских шалостях; чего я только ни придумывала и ни затевала с единственной целью добиться его внимания, нет, не нежности, которую он расходовал так же экономно, как скупой тратит деньги из кубышки, нет, только простого, обычного внимания к моей персоне. Порой мне это удавалось, и тогда он набрасывался на меня с бранью или нещадно избивал. Такие дни были самыми радостными и спокойными днями моего детства: отец меня замечал или вспоминал о моем существовании и проявлял свою нелюбовь ко мне со всей силой, на какую был способен. Побои давали мне редкую возможность физического контакта с ним. И я регулярно провоцировала его. Мне было интересно, до чего он может дойти. И я нарочно нарушала его запреты. Бравировала плохими манерами. Говорила непристойности. Дралась. Воровала. И все это для того, чтобы он меня заметил, чтобы он меня наказал. Получив оплеуху, я позволяла себе еще больше. Иногда он избивал меня до полусмерти. Соседи сначала заступались за меня, потом перестали вмешиваться. В деревне считали, что в меня вселились демоны. И если мой отец, за которым признавали способности целителя, не мог меня вылечить, значит, никто другой и подавно не сумеет. Мои мачехи не понимали, почему я так себя веду. Они делали все, чтобы восполнить мне недостаток материнской заботы, временами обращались со мной даже лучше, чем с собственными детьми (за что эти последние меня терпеть не могли), лишь бы я не чувствовала себя сиротой. Но их усилия были напрасны: я носила в себе смерть матери, я сама была этой смертью, потому что забрала себе ее жизнь. Отец часто напоминал мне об этом, так часто, что в самых приятных снах вместо восходящего солнца я видела на небе голову матери, отделенную от туловища. В своей первой книге я написала, что покойная мать научила меня одиночеству. Это правда. Но, как ни странно, я никогда не могла остаться одна. Она здесь, у меня внутри. Я проглотила ее, чтобы выжить. Я всегда чувствовала ее у себя в животе. Именно это накрепко связало меня с отцом. И ничто не могло извлечь ее оттуда – ни его равнодушие, приправленное ненавистью, ни забота, которой окружали меня мачехи, пытаясь приручить. Ничто не могло помочь. С самого рождения, с первого младенческого крика я была обречена на ненависть отца, считавшего, что я обошлась ему слишком дорого. По крайней мере, так я думала до того вечера. И сказала об этом ему. «Да, я так думаю. Думаю, что ты не любишь меня потому, что я появилась на свет, забрав жизнь своей матери».
Мне послышалось, что старик на диване простонал: «Ты ошибаешься», – хотя в это же самое время Сига Д. продолжала свой рассказ.
– «Я любил твою мать, но жизнь у нее забрал Бог, и никто больше. Я знал, что она умрет, и смирился с этим. Я это провидел. Но не только это. Я провидел, кем ты станешь. И это я принял уже не так смиренно».
– Что это значит? – спросил я у Сиги Д.
– Это значит, Диеган, что мой отец возненавидел меня еще до того, как я появилась на свет, потому что угадал, какой будет моя жизнь.
– Угадал?
– Он утверждал, что у него иногда бывают видения. Точнее, откровения, они посещали его ночью. Я в это никогда не верила. Но я была такая одна. Вся округа и, конечно же, вся наша деревня знали про его дар и приходили к нему, чтобы он предсказал им будущее. Он этим зарабатывал на жизнь: рассказывал людям их будущее и составлял для них молитвы и мистические наставления. К нему приходили политики. Руководители предприятий. Борцы. Обманутые жены. Мужья-рогоносцы. Безработные. Больные. Сумасшедшие. Старые девы. Импотенты. Самые разные люди приходили потолковать с великим и могучим Усейну Кумахом и получить от него молитвы и амулеты. Но, как видно, даже прорицатели идут в пищу червям. Посмотри на него, смердящего, обессиленного, дряхлого, ранимого. Неужели он провидел и это? Неужели прорицатели могут провидеть свой собственный конец, свой жалкий конец? Посмотри на него!
На диване умирал призрак отца, и я отвел взгляд, чтобы не видеть этой печальной картины, а Сига Д. рассмеялась. Когда смех умолк, она продолжила свой рассказ с еще большей решимостью, словно эта вспышка злобного веселья наэлектризовала ее.
– Он сказал: «Мне открылось, кем ты станешь, и провиденное сбылось. Ты в реальности становишься тем, чем была в моем видении, и я не могу простить это миру: не могу простить, что он дал мне дочь, которая напоминает мне все, что я ненавижу, все, что, как я думал, навсегда