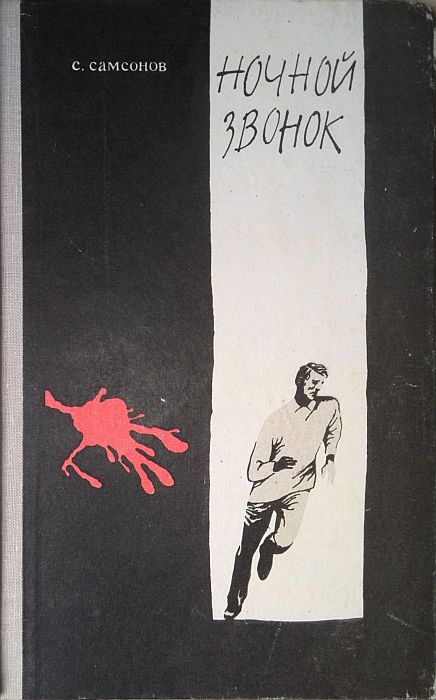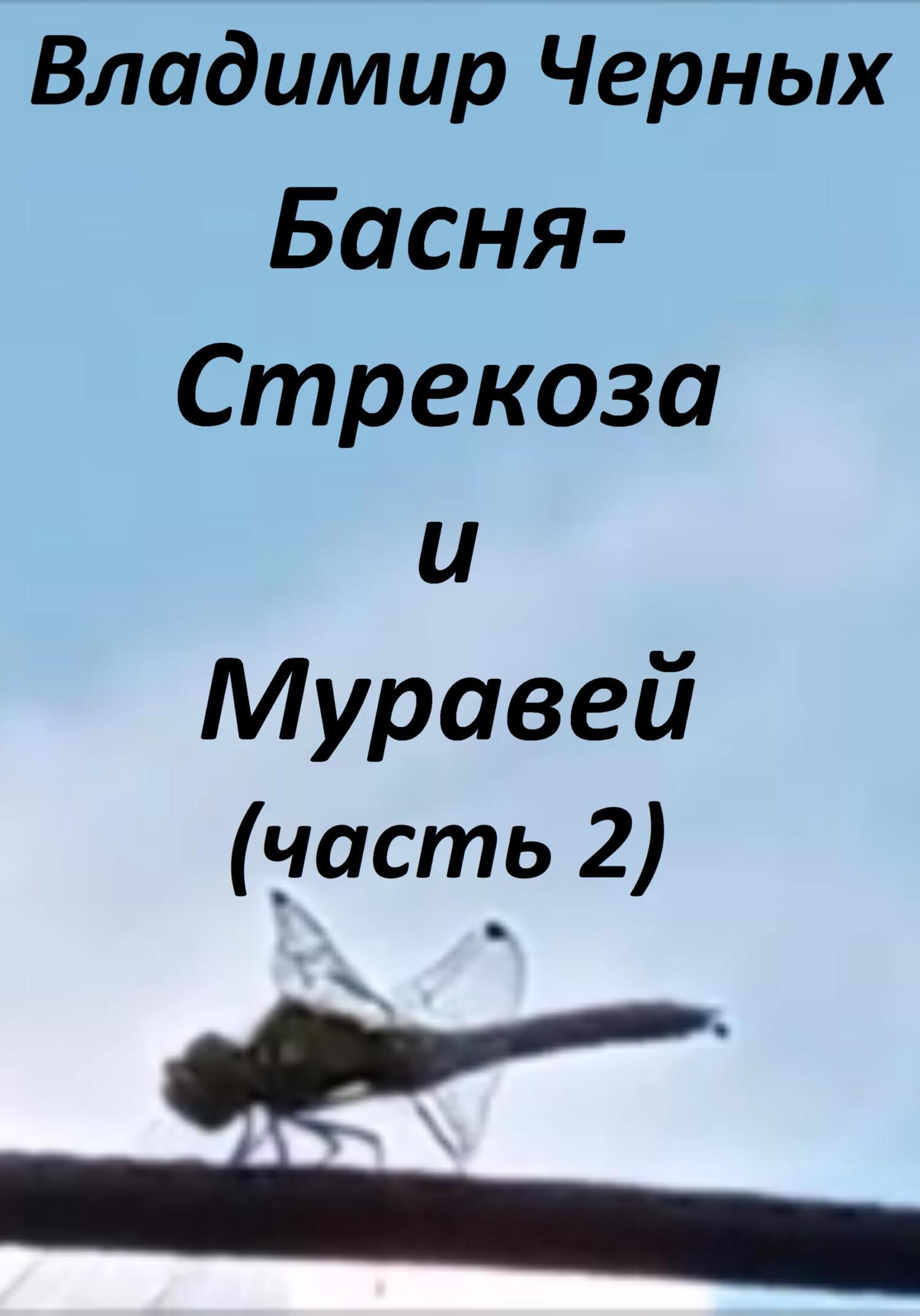корпусе? — спросил Никита Иванович.
— Лаборатория хома.
«Хом» — холодная обработка металла. Гирину было приятно услышать от Веры это выражение. Оно сближало, напоминая, что в институте они оба пользовались такими вот специфическими словечками, как «ХОМ».
— Вы часто заглядываете в институт? — снова опросил он.
— Мы живем в этом районе… Иногда нарочно сделаю крюк, чтобы хоть мимо пройти… Тянет, знаете…
— А на таком вечере, как сегодня, вы, конечно, не в первый раз?
— Именно в первый.
— Не верю.
— Воля ваша, но я говорю правду. Мы, москвичи, слишком плохо пользуемся удовольствиями, которые может нам доставить столица.
— Мне кажется, что вы слишком смело обобщаете.
— Пожалуй, да. Но я, хотите — верьте, хотите — нет, уже лет пять не покупала билетов в Большой театр, о существовании Консерватории вообще забыла… Да уж куда смешнее — новое здание Университета я видела только с Крымского моста.
— Очевидно, без конца откладываете: «Успею, посмотрю, Воробьевы горы никуда не денутся»? Ведь так? Старая истина — человеку свойственно ценить лишь то, чем он не располагает.
— Возможно… А вы все так же презираете танцы и обожаете серьезную музыку?
Она посмотрела на него значительно, очевидно желая подчеркнуть, что хорошо запомнила, каким он был в институте. Счастливо пораженный и вместе с тем застигнутый врасплох вопросом; Гирин не сразу нашел что ответить.
— Вот теперь вы совсем похожи на прежнего Нику.
Это «Ника» еще более изумило его, и, кажется, впервые за всю их беседу Ники — та Иванович с исчерпывающей отчетливостью почувствовал, с кем он стоит, с кем разговаривает. Ему стало как-то по-особенному, по-хорошему неловко и тревожно. Он перевел на Веру настороженный, смущенный взгляд. Она снова улыбнулась и вдруг, тоже смутившись и покраснев, необыкновенно помолодела.
Внезапно рядом вырос Бобровский.
— Радимов завтра примет меня, — доложил он.
Окрыленный и озабоченный одновременно, Бобровский уже сейчас прикидывал, как поведет завтра переговоры с Радимовым, и ни жена, ни Гирин, ни все, что творилось вокруг, не мешало ему. Никита Иванович даже залюбовался им и с легкой завистью подумал, как, по-видимому, любит Вера этого деятельного, умного, красивого человека.
Вера предложила пройтись. Они включились в наладившийся людской круговорот. Вера держала мужа под руку. Безукоризненно стройный, уверенный в себе, он твердо и высоко нес небольшую, аккуратную голову. Время от времени он здоровался энергичным кивком, но это, как видно, не мешало ему продолжать думать о своем.
Гирин шел по другую сторону Веры. В своем чесучовом, простого покроя, свободном кителе он выглядел мешковато. Впечатление неуклюжести усиливали — взъерошенные, кудреватые волосы и большие, мохнатые брови. Никита Иванович сутулился, не знал, куда девать руки, и, несмотря на свою достаточно рослую фигуру, казался ниже и незаметнее Бобровского.
Задребезжм звонок, приглашая на торжественную часть вечера. Люди, зашумев так, что звонок стал еле-еле слышен, повалили к распахнувшимся дверям зрительного зала.
* * *
На огромную безлюдную сцену вышел Денисов — старейший профессор института. И без того невысокий ростом, он выглядел совсем маленьким за пустым длинным столом для президиума. На старческой голове около ушей топорщился белый пушок. Такие же молочно-белые усы — пышные, довольно браво расчесанные и потому немного смешные — нависали над остреньким подбородком. Добродушно настроенный, какой-то умилительно простой, он принимался собравшимися совсем как домашний дедушка. Ему долго и бурно аплодировали, и он отвечал деликатными, неслышными хлопками, прижав к груди согнутые, расслабленные руки.
Но и после того как замолкли аплодисменты, зал долго не мог успокоиться. Узнавая друг друга, люди не стесняясь выражали свой восторг, перекликались через весь зал, перебирались с места на место.
В первом ряду партера Никита Иванович увидел Радимова. Он стоял, закинув назад свою большую пшеничную голову, и переговаривался с кем-то из сидящих на балконе с помощью энергичной жестикуляции.
Видимо следуя установившейся традиции, профессор не спешил браться за председательский колокольчик. Слегка повернувшись ухом к залу, он словно прислушивался к бурлящему собранию и думал о чем-то своем, благодушном и трогательном.
Студенты между собой звали Денисова «Зайкой». Ласковое и удивительно меткое прозвище: походка у профессора шустрая, даже немного прыгающая, держался он всегда как-то боком, и глаза косил, а встопорщенные белые усы и слегка вздутые щеки завершали сходство.
Зайке было очень легко сдавать экзамены. Он жалел студентов и страшно расстраивался, когда ему приходилось ставить двойку. Впрочем, это приключалось чрезвычайно редко. И никто не помнил, чтобы профессор уличал кого-нибудь в списывании. Сейчас Никита Иванович подумал, что Денисов, конечно, видел плутовские проделки студентов, но уважение к человеку так развито в нем, что он просто стыдился делать замечания.
Никите Ивановичу представился ясный зимний день, небольшой заснеженный сад, что стоит перед институтом. По аллее, ведущей к главному входу института, спешит профессор — рассеянный, добрый, феноменально скромный человек. Каждый старается поздороваться с ним, и Зайка по минутно сдергивает с головы потертую черную шапку-пирожок.
Вслед за этой картиной Никите Ивановичу представились другие столь же милые, столь же ясные и столь же далекие. И когда он услышал какой-то задорно-настойчивый звук, тоненький и чистый, то не сразу сообразил, что профессор взялся за колокольчик.
Зал утих. После короткой вступительной речи профессора один из выпускников института вышел к высокой скобе трибуны и принялся читать список президиума. Каждая фамилия покрывалась долгими аплодисментами, и Никита Иванович подумал, что чтение солидного списка рискует изрядно затянуться. Он обернулся к Бобровскому, чтобы сказать ему об этом, и увидел, что тот, весь подавшись вперед, не сводил с трибуны напряженного взгляда.
—.. Бобровский Виктор Леонидович, — отчетливо донеслось со сцены.
Виктор размяк, довольный: Обернувшись к Никите Ивановичу и Вере, слегка развел руками — вот, дескать, выдвигают, что поделаешь…
Профессор пригласил членов президиума занять места, и Бобровский сразу же стал пробираться к проходу.
Докладчика, заместителя начальника управления кадров министерства, зал слушал лишь первые минуты. Доклад он читал. Читал даже в тех местах, где каждый школьник мог бы все сказать своими словами. Впрочем, даже это у него выходило плохо. То он, не окончив фразы, делал вдруг остановку, то, наоборот, проглатывал точку и сливал две фразы вместе. Догадавшись, что напутал, докладчик перечитывал искаженное место, мучительно вглядываясь в положенные перед ним листы. Иногда на лице его появлялось даже что-то вроде недоумения, как будто он не совсем соглашался с тем, что ему приходилось произносить.
Словом, создавалось впечатление, что докладчик пока трудился лишь над освоением доклада, а уж само-то его выступление должно состояться когда-нибудь потом. Занятый своим делом, человек на трибуне существовал сам по, себе, а зал и президиум также