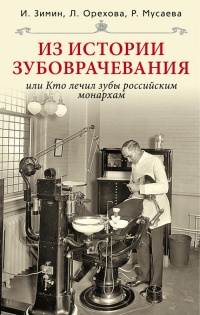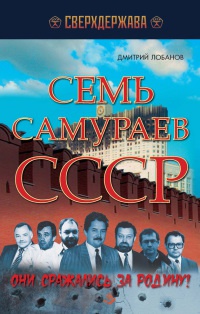вдруг подхватили его под руки и очень быстро, не давая опомниться, тщательнейшим образом обыскали. Как бывает с людьми некоторого склада в тревожную минуту, он запомнил это очень хорошо, но как-то отстраненно, как будто его душа (это его сравнение, не мое), вдруг перепугавшись, решила ненадолго выпорхнуть из тела и, трепеща крылышками, обозревала происходящее с безопасного расстояния. Почему-то ему приходила при этом на ум сцена из «Одиссеи», когда ослепленный Полифем ощупывает одного барана за другим: ровно таким бараном он себя и почувствовал, даром что у Полифемов в шинелях было шесть глаз на троих.
Не найдя ничего, жандармы нехотя его отпустили, после чего Рундальцов был вознагражден своими минутами славы: его появление в зале ожидания было встречено чуть ли не рукоплесканиями других пассажиров, у которых тем временем как раз успели проверить паспорта. Оставшиеся часы дороги к нему в купе то и дело заглядывали люди из других вагонов, подозревая в нем близость к таинственным волнующим мирам и желая при его посредстве прикоснуться к ним тоже: приглашали его в вагон-ресторан пропустить рюмочку, звали в гости, а одна дама, скрывшая свои черты под густой вуалью, ни слова не говоря, протянула ему рукой, затянутой в лайковую перчатку, карминно-красную визитную карточку с эллинским именем, вытисненным особой вязью. От карточки шел густой аромат асфоделей. В Вене на почте его ждала телеграмма, сообщавшая о скоропостижной смерти матери от приступа грудной жабы.
Странно, но в эту минуту он не почувствовал ничего, кроме, может быть, тени облегчения. Уже потом, припоминая эти венские дни, прожитые им в некотором тумане, он задним числом придумал себе если не оправдание (в котором не нуждался), то хотя бы объяснение. Он представлял себе прожитую жизнь в виде некоего здания. Однажды оно даже ему приснилось — большое, вычурное, похожее на готический собор, но при этом совершенно светское: так могла выглядеть средневековая ратуша в каком-нибудь немецком городе, где все тайны и красоты поручались архитектуре с тем, чтобы обыденной жизни оставались лишь окорока, пиво и булыжная мостовая, по которой так весело маршировать, чеканя ритм подбитыми медью каблуками. Здание это (во сне) было недостроено, как будто возводить его начали, например, с северного фасада, причем сразу целиком, во всю высоту: Лев Львович понимал, что так не делают, но сновидческую его сторону это не останавливало. Дом был с одного боку возведен под самую стрельчатую черепитчатую крышу, и даже приспособлены были какие-то горгульи со знакомыми физиономиями, но кончалось здание пустым проемом, в котором копошились рабочие. И вот мать его, которая была краеугольным камнем всего сооружения, умерла — и здание рухнуло, подняв тучу пыли.
Его практические заботы от этого, конечно, не были решены: напротив, когда он подумал было о возвращении в Кишинев, то понял, что в безопасности там отнюдь не окажется. Если бы он мог отыскать ту организацию или тех людей, которые приговорили его (ежели только юный мерзавец не выдумал все самостоятельно), он мог бы, вероятно, с ними объясниться, хотя не вполне ясно, каковы могли быть свидетельства его невиновности. Более того, вопрос его вины мог вовсе для них не возникнуть: он называл мне русский роман, в котором героя в похожей ситуации убили ни за что, только ради того, чтобы связать участников казни кровавой порукой. Поэтому облегчение это, если оно не почудилось его виноватому (и виноватящему себя) уму, восходило к иррациональному ощущению перевернутой страницы, которая, может быть, означала закончившийся кошмар, гнавший его безостановочно с той бессарабской ночи: как в дурном сне захлопнутая дверь в комнату, где заперто чудовище.
Оставались кое-какие заботы материального свойства. По еврейскому обычаю похоронили мать в тот же день, так что на погребение он в любом случае не успевал — но, по тем же причинам, вряд ли и поехал бы, а так не было и возможности. Управление всеми ее имущественными делами взял вновь вынырнувший из Макарова или Бендер дядя Иось: он же, собственно, и отправил телеграмму Льву Львовичу. Тот обменялся с ним еще несколькими телеграммами, причем его корреспондент, демонстрируя свою рачительность, опускал ради экономии отдельные слова, что в сочетании с обычными телеграфными искажениями давало на выходе какие-то шарады («priluga vse dom zdam»): вероятно, это следовало понимать так, что весь домашний штат рассчитан, а недвижимое имущество предназначается для долгосрочной аренды. Лев Львович, враз оставшийся без семьи и родового гнезда, хотел было переспросить, что станется с его одеждой, микроскопом и скопившейся небольшой библиотекой, но потом, припомнив русскую пословицу про голову и волосы, плюнул и махнул рукой. Как потом он рассказывал с обычной своей сардонической усмешкой, набивая трубочку душистым табаком с добавлением цветов фиалки, отчего-то он эту плачущую голову из пословицы представлял очень хорошо, причем мысленно связывал ее с давним своим кишиневским лысым приятелем, который и вправду имел основания грустить по утраченной шевелюре. В воображении, несмотря на это, голова действительно пускала по щеке горючие слезы, покуда палач, только что совершивший обряд декапитации, искал, как бы ее получше ухватить, чтобы показать народу, и в результате приподнимал за уши, как затравленного зайца.
Телеграфный стиль не располагал к подробным объяснениям, но Лев Львович сумел предположительно удостовериться, что дядя Иось, по крайней мере, не склонен урезать его ежемесячные поступления («kak prezde ne obizu»). Окончательный же расчет по имуществу, равно как и вступление в права наследства, он решил отложить на потом. Несмотря на то что телеграф мог исправно прино-сить новые сведения в любой уголок Европы, Лев Львович считал, что он должен чего-то дождаться в Вене, не двигаясь дальше: может быть, ему подсознательно хотелось отсидеть положенный недельный траур по матери. Впрочем, в полном смысле слова он не сидел, а скорее ходил, бесцельно бродя по городу, время от времени присаживаясь на какую-нибудь скамейку и бессознательно вперяясь долгим взглядом в прохожих, которые, случайно перехлестнувшись с ним глазами, прибавляли шаг.
Здесь, на каком-то из бульваров, произошла у него знаменательная встреча, истинное значение которой он понял, как это обычно бывает, потом — недели, а то и месяцы спустя. Мне, кстати, кажется, что у нашей породы существует особенный подвид, предназначенный именно для таких случаев. Если в земных армиях, помимо традиционной пехоты, артиллерии и всего в этом роде, имеются, как пишут в газетах, всякие отряды особенного назначения, какие-нибудь британские гуркхи в смешных шапочках или австрийские горные егеря, то, может быть, и среди нас есть те, чья работа состоит не в постоянном пригляде, а в