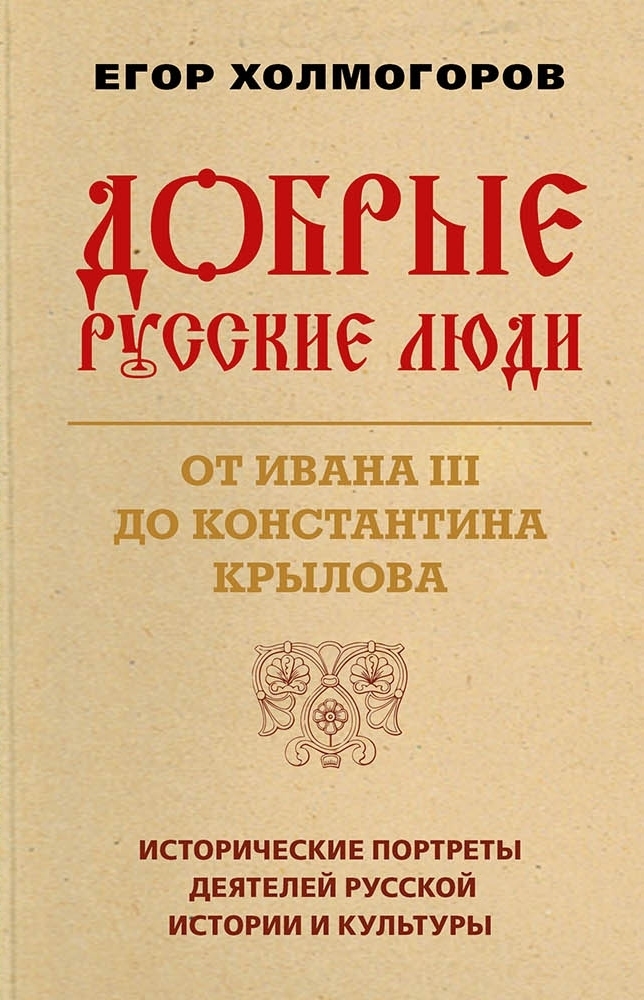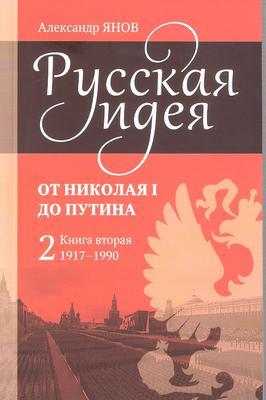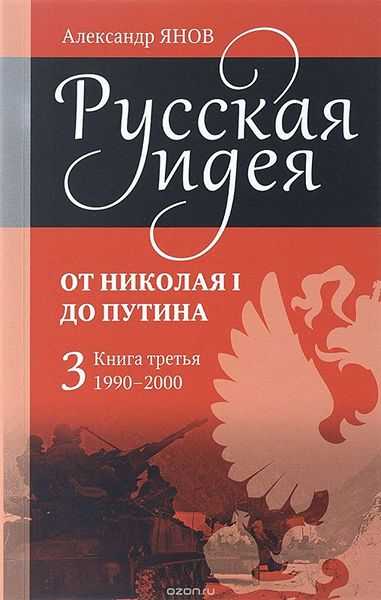единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?
А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!
А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы?
А Александр, который привел нас в Париж?
и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в нынешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?»
Представив себе развитие Пушкина, если бы его не прервала пуля Дантеса, мы можем говорить с уверенностью – он стал бы нашим Гизо, нашим Тьерри и нашим Мишле, соединил бы в себе преимущества широкого исторического охвата, философской глубины, и блестящего возбуждающего чувство гордости своей нацией стиля, которым отличались классики французской романтической историографии.
Здесь неуместно говорить о том, что история не знает сослагательного наклонения. Пушкин погиб на пороге полного раскрытия своего потенциала. Греки не случайно считали сорокалетие периодом «акме» – точкой предельного раскрытия творческих и умственных способностей мужчины, равновесием между слепым полнокровием молодости и бессильной старческой мудростью, временем полнокровного ума. Когда мыслитель и творец не доживает до этого рубежа – перед нами трагедия, потому что слишком многое в нем остается в черновике.
Лишь гигантский труд Жуковского и позднейших пушкинистов дали нам того Пушкина, которого мы знаем сегодня. Современник, осмыслявший творчество Пушкина в день его кончины, не знал ни «Медного всадника», ни «Дубровского», ни «Арапа Петра Великого», ни «Осени», ни «Из Пидемонти», ни «Путешествия из Москвы в Петербург». Весь огромный архив заметок, черновиков, набросков стал фактом русской культуры лишь после смерти Пушкина. Многое в этом наследии – расшифровка тайных глав Онегина, многие эпиграммы и стихи, и по сей день остается в статусе спорного и не вполне достоверного. Пушкин черновиков и отложенных в стол произведений заменяет нам своими замыслами того Пушкина, который никогда не осуществился «в полный рост».
VI.
«Пушкин – это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет», – утверждал Николай Васильевич Гоголь. И не преувеличивал со сроками. Скорее даже наоборот. Прошло уже двести лет, однако тип русского человека, блеснувший нам в Пушкине, до сих пор является редкостью.
Столь огромный Пушкин стадам современных Сальери доставляет дискомфорт, а потому они пытаются заузить его по своему размеру. То делают из него унылого фрондера и безбожника. То развратника, картежника и шута. То с наглой ухмылкой объявляют его «негром», в худших традициях южноамериканских штатов XIX века («капля негритянской крови окрашивает все»). То пытаются выставить революционером, заговорщиком, внутренним эмигрантом, иностранцем в родном Отечестве. В последние десятилетия вокруг Пушкина сложилась душная атмосфера клеветы, хихиканий, дремучего невежества.
Нечасто среди современников увидишь человека широкого европейского образования, смелого в мысли, творческого во всех жизненных проявлениях, но при этом искренне и самоотверженно любящего Отечество, презирающего клеветников России и яростно обличающего ее врагов. Зато не счесть тех, кто сочетает вымышленную креативность и полуграмотность, почерпнутую из одной западной книги, с неистовой ненавистью ко всему русскому.
Нечасто встретишь и того, кто обладает подлинным аристократизмом духа, не говоря уж о принадлежности к древнейшему боярскому роду, но при этом проникнут глубоким и искренним уважением к простому русскому человеку, способен сказать в его защиту, например, такие слова: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего». Напротив, хватает самозванцев, которые на презрении к простому соотечественнику и смрадном социальном расизме строят свои претензии на самозваное «первородство».
Нечасто увидишь тех, кто, пылая ненавистью к деспотизму, воспевая вольность и гражданственность, не стесняясь перечить даже царям, при этом восхищенно созерцает русскую историю, старается глубоко в нее проникнуть и клянется честью, что «ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой Бог нам ее дал». Зато сплошь и рядом мы видим маляров негодных, зачерпнувших из ведра немного грязной краски, которой они пачкают лики святых и драгоценные фрески нашей старины. Нет в этих писаках ни смелости, ни истинного гражданского мужества, но через край – продажности и готовности отдаваться хоть своему, хоть чужому начальству за презренное злато.
Пушкин был и остается нашей внутренней мерой, в которую мы еще не выросли. Среди сурового времени – и в России, и в Европе, и за тридевять морей – он жил как свободный просвещенный независимый и в чем-то индивидуалистичный человек. Однако не отчужденный ни от своего народа, ни от общества, в котором пребывал: заботливый об усовершенствовании государства гражданин, пламенный – именно русский – патриот, при всей мировой широте собственных умственных интересов.
В Пушкине чрезвычайно сильны национальная гордость и продиктованный ею боевой дух. Он видит те задачи, которые и по сей день встают перед русской нацией, зовет к отваге при их разрешении. Проходит без малого два столетия, а его строки все еще выражают философию русской исторической борьбы.
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?..
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вкруг её волненья пали —
И Польши участь решена…
VII.
Может быть именно в силу того сосредоточения в Пушкине идеальных русских черт, которое отметил Гоголь, Пушкина пытаются превратить в боевой топорик наших многонационалов. Любой разговор у этой публики о Пушкине начинается и заканчивается камланиями о том, что «Пушкин был по происхождению негром, а, однако ж, великий русский поэт», ну и обраточка: «и даже главный поэт у вас, русских, – и то негр».
Игра в «арапа» была романтической юношеской забавой Пушкина, придавая ему черты столь модного среди романтиков ориентализма. Сопровождавшая издание «Кавказского пленника» гравюра Гейтмана, и в самом деле изобразившая Пушкина почти африканцем, выполнена на основе акварели пушкинского лицейского учителя Чирикова, взглянув на которую мы не обнаружим никаких ориентальных черт.
Выдумкой является основанное на воспоминаниях лицеиста Комовского утверждение, что, якобы, за африканские дикие манеры лицейские товарищи прозвали Пушкина «обезьяной». Такого прозвища у Пушкина никогда не было. В лицее его звали «французом» за любовь к французской поэзии и постоянное чтение французских книг. В годовщину 19 октября 1828 года, заполняя