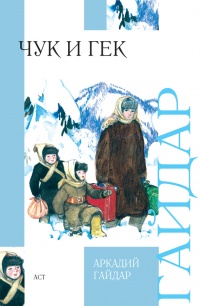В первые дни Февральской революции школа была похожа на муравьиную кучу, в которую бросили горящую головешку. После молитвы о даровании победы часть ученического хора начала было, как и всегда, гимн «Боже, царя храни», однако другая половина заорала «долой», засвистела, загикала. Поднялся шум, ряды учащихся смешались, кто-то запустил булкой в портрет царицы, а первоклассники, обрадовавшись возможности безнаказанно пошуметь, дико завыли котами и заблеяли козами.
Тщетно пытался растерявшийся инспектор перекричать толпу. Визг и крики не умолкали до тех пор, пока сторож Семен не снял царские портреты. С визгом и топотом разбегались взволнованные ребята по классам. Откуда-то появились красные банты. Старшеклассники демонстративно заправили брюки в сапоги (что раныпе не разрешалось) и, собравшись возле уборной, нарочно, на глазах у классных наставников, закурили. К ним подошел преподаватель гимнастики офицер Балагушин. Его тоже угостили папиросой. Он не отказался. При виде такого, доселе небывалого, объединения начальства с учащимися окружающие закричали громко «ура».
Однако из всего происходящего поняли сначала только одно: царя свергли и начинается революция. Но почему надо было радоваться революции, что хорошего в том, что свергли царя, перед портретом которого еще только несколько дней тому назад хор с воодушевлением распевал гимны, — этого большинство ребят, а особенно из младших классов, еще не понимало.
В первые дни уроков почти не было. Старшеклассники записывались в милицию. Им выдавали винтовки, красные повязки, и они гордо расхаживали по улицам, наблюдая за порядком. Впрочем, порядка никто нарушать и не думал. Колокола тридцати церквей гудели пасхальными перезвонами. Священники в блестящих ризах принимали присягу Временному правительству. Появились люди в красных рубахах. Сын попа Ионы, семинарист Архангельский, два сельских учителя и еще трое, незнакомых мне, называли себя эсерами. Появились люди и в черных рубахах, в большинстве воспитанники старших классов учительской и духовной семинарий, называвшие себя анархистами.
Большинство в городе сразу примкнуло к эсерам. Немало этому способствовало то, что во время всенародной проповеди после многолетия Временному правительству соборный священник отец Павел объявил, что Иисус Христос тоже был и социалистом и революционером. А так как в городе у нас проживали люди благочестивые, преимущественно купцы, ремесленники, монахи и Божьи странники, то, услышав такую интересную новость про Иисуса, они сразу же прониклись сочувствием к эсерам, тем более что эсеры насчет религии не особенно распространялись, а говорили больше про свободу и про необходимость с новыми силами продолжать войну. Анархисты хотя насчет войны говорили то же самое, но о Боге отзывались плохо.
Так, например, семинарист Великанов прямо заявил с трибуны, что Бога нет, а если есть Бог, то пусть он примет его, Великанова, вызов и покажет свое могущество. При этих словах Великанов задрал голову и плюнул прямо в небо. Толпа ахнула, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса и грянет гром на голову нечестивца. Но так как небеса не разверзались, то из толпы послышались голоса, что не лучше ли, не дожидаясь небесных кар, своими силами набить морду анархисту? Услыхав такие разговоры, Великанов быстро смылся с трибуны и благоразумно скрылся, получив всего только один тычок от богомолки Маремьяны Сергеевны, ехидной старушонки, продававшей целебное масло из лампад иконы Саровской Божьей матери и сушеные сухарики, которыми пресвятой угодник Серафим Саровский собственноручно кормил диких медведей и волков.
В общем, меня поразило, как удивительно много революционеров оказалось в Арзамасе. Ну, положительно все были революционерами. Даже бывший земский начальник Захаров нацепил огромный красный бант, сшитый из шелка. В Петрограде и в Москве хоть бои были, полицейские с крыш стреляли в народ, а у нас полицейские добровольно отдали оружие и, одевшись в штатское, мирно ходили по улицам.
Однажды в толпе на митинге я встретился с Евграфом Тимофеевичем, тем самым городовым, который участвовал в аресте моего отца.
Он шел с базара с корзиной, из которой выглядывала бутылка постного масла и кочан капусты. Он стоял и слушал, о чем говорят социалисты. Заметив меня, приложил руку к козырьку и вежливо поклонился.
— Как живы-здоровы? — спросил он. — Что… тоже послушать пришли? Послушайте, послушайте… Ваше дело еще молодое! Нам, старикам, и то интересно… Вишь ты, как дело обернулось!
Я сказал ему:
— Помните, Евграф Тимофеевич, как вы приходили папу арестовывать, вы тогда говорили, что «закон», что против закона нельзя идти. А теперь — где же ваш закон? Нету вашего закона, и всем вам, полицейским, тоже суд будет.
Он добродушно засмеялся, и масло в горлышке бутылки заколыхалось.
— И раньше был закон, и теперь тоже будет. А без закона, молодой человек, нельзя. А что судить нас будут, так это — пускай судят. Повесить — не повесят. Начальников наших и то не вешают… Сам государь император и то только под домашним арестом, а уж чего же с нас спрашивать!.. Вон, слышите? Оратор говорит, что не нужно никакой мести, что люди должны быть братьями и теперь, в свободной России, не должно быть ни тюрем, ни казней. Значит, и нам не будет ни тюрем, ни казней.
Он поднял сумку с капустой и ушел вперевалку.
Я посмотрел ему вслед и подумал: «Как же так не нужно?.. Неужели же, если бы отец вырвался из тюрьмы, он позволил бы спокойно расхаживать своему тюремщику и не тронул бы его только потому, что все люди должны быть братьями?» Я спросил об этом Федьку.
— При чем тут твой отец? — сказал он. — Твой отец был дезертиром, и на нем все равно осталось пятно. Дезертиров и сейчас ловят. Дезертир — не революционер, а просто беглец, который не хочет защищать родину.
— Мой отец не был трусом, — ответил я, бледнея. — Ты врешь, Федька! Моего отца расстреляли и за побег и за пропаганду. У нас дома есть приговор.
Федька смутился и ответил примирительно:
— Так что же это, я сам выдумал? Об этом во всех газетах пишут. Прочитай в «Русском слове» речь Керенского. Хорошая речь… ее когда на общем собрании в женской гимназии читали, так ползала плакало. Там про войну говорится, что надо напрягать все силы, что дезертиры — позор армии и что «над могилами павших в борьбе с немцами свободная Россия воздвигнет памятник неугасаемой славы». Так прямо сказано — «неугасаемой»! А ты еще споришь!
…На трибуну один за другим выходили ораторы. Охрипшими голосами они рассказывали о социализме. Тут же записывали желающих в партию и добровольцев на фронт. Были такие ораторы, которые, взобравшись на трибуну, говорили до тех пор, пока их не стаскивали. На их место выталкивали новых ораторов.
Я все слушал, слушал, и казалось мне, что от всего услышанного голова раздувается, как пустой бычий пузырь. Перепутывались речи отдельных ораторов. И никак я не мог понять, чем отличить эсера от кадета, кадета от народного социалиста, трудовика от анархиста, и из всех речей оставалось в памяти только одно слово:
— Свобода… свобода… свобода…