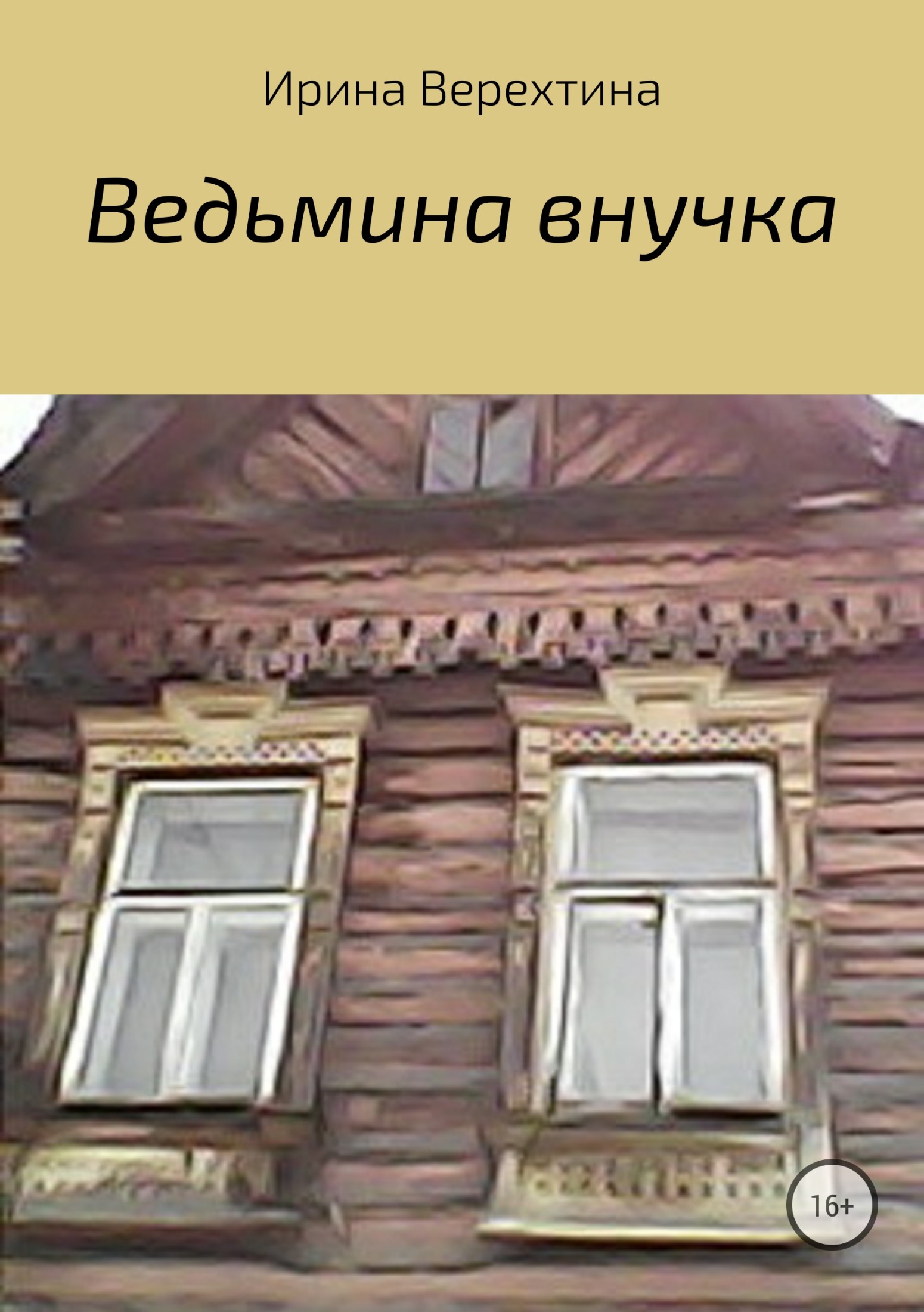повергает в уныние».
Потом задумалась: что же здесь странного, все правильно, мы подобны маятникам, колеблющимся между утешением и унынием; между двумя буквами «у». Ключевое слово: «малость» – вот этот маятник, от которого зависит состояние нашей души, и куда он нас качнет в ближайший миг – нам неведомо.
Я прекрасно понимаю, что мир – эфемерен, и мои отношения с Яном – эфемерны, и чем больше я к нему привязываюсь, тем больнее мне придется ему сделать, чтобы отодрать, отскоблить себя от него, но – при этом – и мне самой, я понимаю, будет больно, а может быть, больнее, поскольку мне никогда не было так хорошо. Наверное, еще и потому, что Ян – это другая жизнь, не соприкасавшаяся с моей реальной жизнью, где мой любимый старый город медленно и неотвратимо, на моих глазах, погружается в пучину забвения, и я – вместе с ним; я привязана к этому городу цепями, как привязан преступник к мачте тонущего корабля: все другие давно попрыгали в шлюпки и – возможно – спасутся, но только не он.
Кто-то скажет, что я слишком мрачно смотрю на жизнь, вместо того чтобы радоваться ей и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Но книга жизни, которую я пишу – и никак не допишу до конца, – не предназначена для того, чтобы видеть этот мир сквозь розовые очки. Я бы хотела, чтобы мой город принимал у себя миллионы туристов, я бы хотела, чтобы в моем городе сохранили и реставрировали памятники архитектуры, я бы хотела, чтобы власти не воровали и не брали взятки, я бы хотела, чтобы из него не бежали куда глаза глядят – люди, я бы хотела, чтобы этот город стал по-настоящему европейским, как был когда-то.
Вопрос в другом: много ли таких, как я?
Не думаю.
Мне рассказывали как-то, что на местную администрацию вышли представители одной из европейских стран и предложили привести в порядок старую часть города, ту, что так поражает приезжих своей классической европейской архитектурой. Чиновник, с которым разговаривали, долго слушал со скучающим видом назойливых гостей, а потом, глядя им в глаза, спросил: «Какой процент откатывать будете?!.» Гостям перевели. Они не поняли и переспросили. Чиновник задал тот же вопрос. Переводчик постарался перевести, что имеет в виду чиновник. Гости встали, попрощались и ушли.
Тот же Паскаль писал: «Жажда справедливости – высшее блаженство»; у меня такое ощущение, что в нашем городе осталось лишь несколько блаженных, для кого справедливость – высшая цель. Но на них – собственно – и смотрят, как на блаженных, юродивых, белых ворон, остальные же смиренно плывут по течению; те, кто правит, соблюдают «золотое правило»: у кого золото, тот и правит…
Из дневника Яна Карми
Слушаю песню «Золотой Иерусалим» – Номи Шемер; и музыка, и слова – этой удивительной женщины, композитора, певицы, поэта. Она рассказывала, что однажды ей попалась на глаза история из Талмуда о легендарном рабби Акиве. Успокаивая свою жену, которая лишилась отцовского наследства, он сказал ей: «Любимая, если бы я мог, я подарил бы тебе „золотой Иерусалим“…»; собственно говоря, так называли золотую диадему – женское украшение – с башенками, – изображавшее стены Иерусалима. Как вспоминает сама Шемер, тогда, в то время, когда рождалась песня, Иерусалим, скорее, был серым, нежели золотым, и некий червь сомнения зашевелился в ней: «А ты уверена, что золотой?!» – и все-таки что-то подсказало, ответило, парируя: «Да, конечно, именно золотой…»Так родилась легендарная песня.
Припев в переводе Лии Владимировой звучал так:
Иерусалим мой золотой,
Из меди, камня и лучей.
Я буду арфой всех напевов
Красы твоей.
Любопытно, что в повести Алехо Карпентьера «Арфа и тень» есть эпиграф, помеченный названием «Золотая легенда»; в самой книге не объясняется, что это за «Золотая легенда», но в Википедии – не знаю уж, насколько ей можно верить, – говорится, что «Золотая легенда» – это сочинение Иакова Ворагинского, собрание христианских легенд и занимательных житий святых, написанное на латинском языке около 1260 года, и – дескать – это одна из самых любимых книг Средневековья, в XIV–XVI веках стоявшая после Библии на втором месте по популярности.
Так вот, эпиграф в повести Карпентьера звучит так:
В арфе, когда она звучит, есть три вещи:
искусство, рука и струна.
В человеке – тело, душа и тень.
Опять – арфа, но на сей раз – параллель с человеком; в данном конкретном случае – это параллель с Таней: тело, душа и тень.
Тело.
Оно прекрасно; я боюсь соскользнуть в банальность, но тело Тани кажется мне натянутой струной, которая – подобно арфе – звучит, когда ее касается моя рука; это – моя Песнь песней, это благодатный огонь моей последней любви; по слову Тютчева:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней.
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье,
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.
Он-то знал, о чем пишет, старик Тютчев, когда закрутил лихой роман со сверстницей своей дочери Екатериной Денисьевой; ему было 47, ей – 24.
Собственно, и я понимаю, о чем пишу, потому что блаженство быть с Таней, чувствовать жар ее тела, ощущать ее рядом с собой или над собой, словно птицу, распластавшую крылья.
Душа.
Говорят, чужая душа – потемки, хотя Таня – человек, безусловно, искренний и нелицемерный. Но закрытый; никогда не узнаешь, что творится у нее внутри, и – видимо, – и не надо; надо принимать ее такой, какая она есть, когда с тобой, рядом, когда обнимает тебя, когда ласкает, целует, когда ты входишь в нее, как – простите за банальность – меч входит в ножны, и «когда предмет сечет предмет»; принимать ее, не спрашивая, что у нее творится в душе, – принимать, как природное явление: если светит солнце – значит, светит солнце, если идет дождь – значит, идет дождь.
Душа Тани для меня – загадка за семью замками, и может быть, и не стоит разгадывать эту загадку?
Тень.
Тень – это ее реальная жизнь и ее прошлое; тень – это то, что