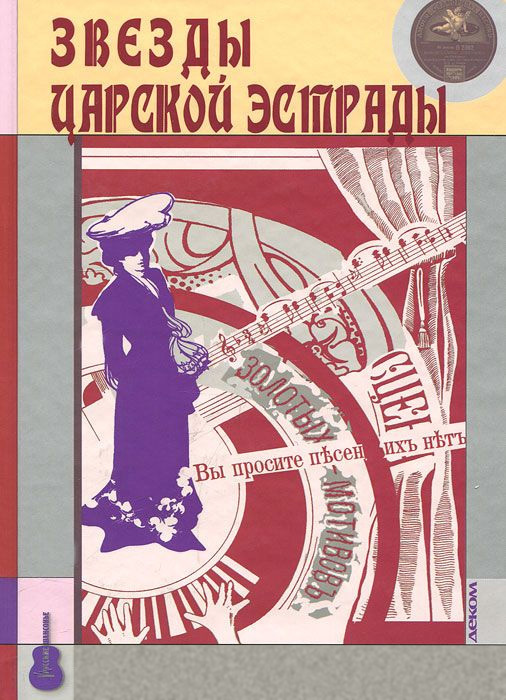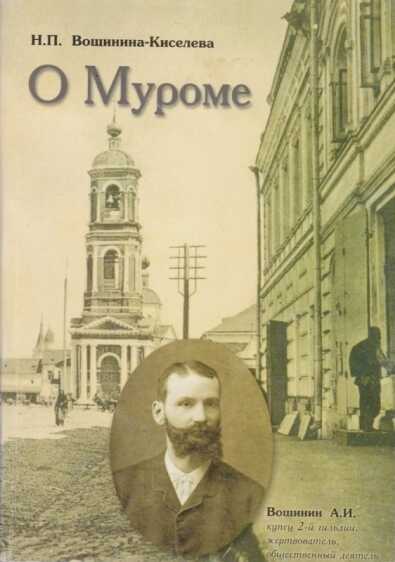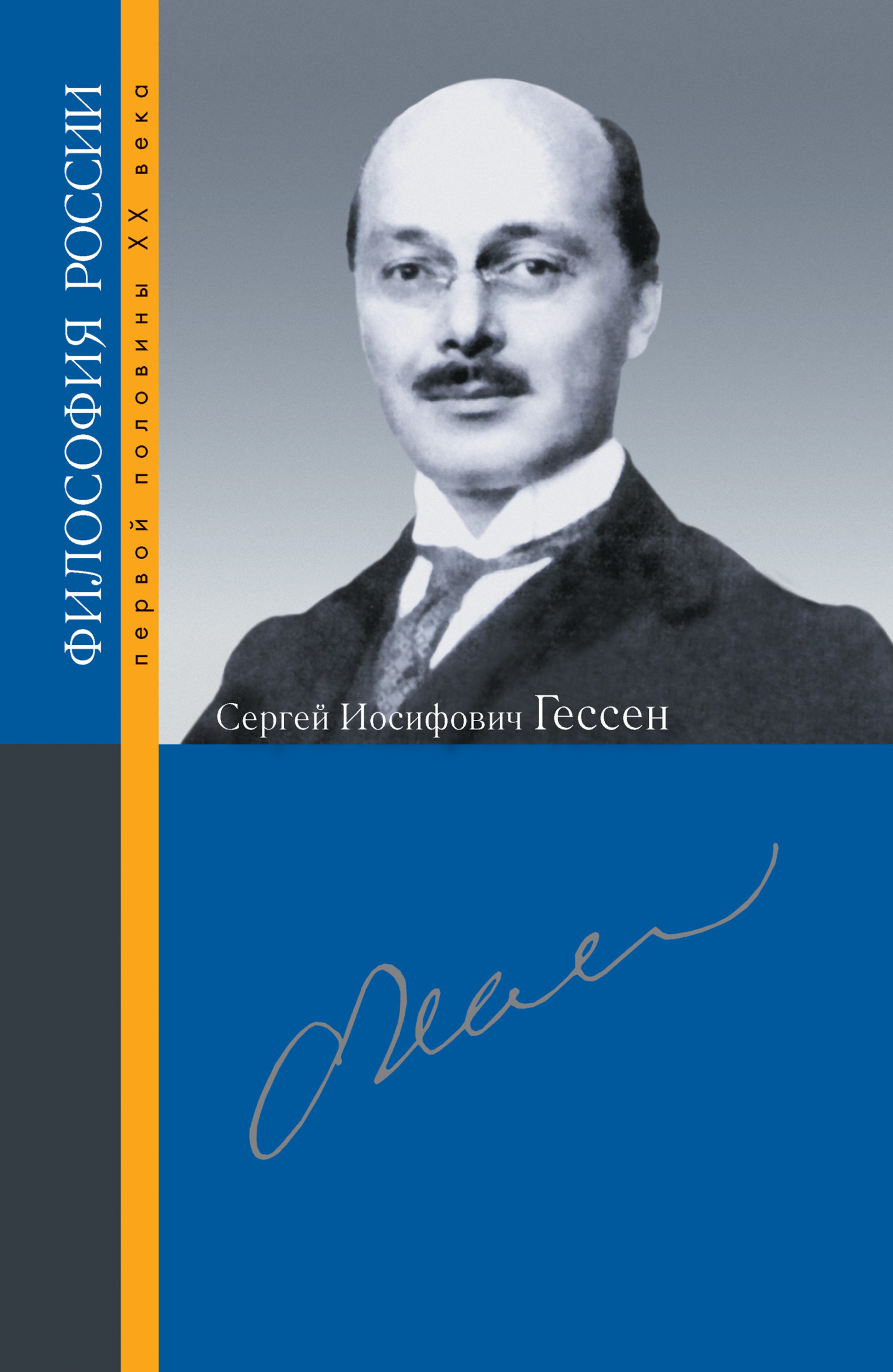другой книге хотела бы я рассказать о пути моем уже с песней, о многих встречах, о многих людях и о том, как вернулась в родное село уже не Дёжка Винникова, а Надежда Плевицкая.
* * *
Вот думала, гадала ли я, что над озером, во Франции, в Мёдонском лесу, буду вспоминать село Винниково, и песни подруг, и тихое бормотание прялок в зимние вечера.
Далеко меня занесла лукавая жизнь. А как оглянусь в золотистый дым лет прошедших, так и вижу себя скорой на ногу Дёжкой в узеньком затрапезном платьишке, что по румяной зорьке гоняется в коноплях за пострелятами-воробьями. Вижу, как носится Дёжка-игрунья в горячем волнении карагодов – от солнца, от пляски. Льют вишневый блеск шелка полушалков, паневы да кички кипят огненной пеной.
И вижу, как плавно ступает по монастырскому двору, что красным кирпичом в елочку вымощен, тоненькая, словно березка, тихая монастырка Надежда, и строгий плат до бровей… С обрыва видна дальняя даль: синеют леса святорусские, дым деревень, пески, проселки-дороги, хлеба. Вот облака-паруса осветило кротким румянцем. Заря, моя зорюшка, нежная, алая, свет тишайший над Русью.
Поднять бы к ней руки, запеть, позвать бы в дальнюю даль. И вдруг поплыл гул, бархатистый, дрожащий, отдался в ушах щекоткой и звоном: чудо-колокол к ранней ударил.
Аминь.
Мёдон, 10 июля 1924 года
Книга вторая. Мой путь с песней
Нежно любимому другу
М.Я. Эйтингон посвящаю
На чужбине, в безмерной тоске по Родине, осталась у меня одна радость – мои тихие думы о прошлом. О том дорогом прошлом, когда сияла несметными богатствами матушка-Русь и лелеяла нас в просторах своих.
Далека родимая земля, и наше счастье осталось там. Грозная гроза прогремела, поднялся дикий, темный ветер и разметал нас по всему белому свету. Но унес с собой каждый странник светлый образ Руси, любви к отечеству дальнему и благодарную память о прошлом.
Светит такой непогасимый образ и у меня.
* * *
За пятнадцать лет изъездила я великие русские просторы, не сосчитать, сколько десятков тысяч верст отмерила, а не объездила всей России.
Началом моих длинных и частых путешествий был 1909 год, когда, после моих гастролей в Нижнем Новгороде, на ярмарке, была я приглашена в Ялту, в летний театр к Зону.
Стоял золотой сентябрьский день. Я вышла с вокзала в Севастополе, и уже через час по ослепительно-белому шоссе автомобиль мчал меня в Ялту.
Молодой, крылатой была тогда моя душа, и казалось, вот вырвется из груди и улетит в солнечную даль. А тут мелькают сады виноградные, по зеленым холмам отары звенят бубенцами, между гор вьется белая дорога. Автомобиль летит, и встречный ветер весело шумит в уши, что жизнь прекрасна, прекрасна.
Вот и Байдарские Ворота. В восторженном изумлении смотрит путник на синюю морскую даль с головокружительной высоты. Словно чудо Божие открывается перед ним. Здесь становится страшно пред величием Творца, потому здесь и храм на отвесной скале. Строители его понимали, что на сем месте помолится каждый.
А машина уже мчится вниз от Байдарских Ворот. Не знаешь, куда и смотреть: направо, в синем море, реют белые паруса, налево, в поднебесье, парят орлы над гранитными кряжами. Так, с затуманенной от дороги головой, примчалась я в Ялту.
А у государевой Ливадии[24] повстречала я иных орлов. В темно-синих с желтым черкесках, в черных папахах с красным верхом, они гарцевали на статных конях. Бородачи, один другого краше, конвойцы его величества. Им поручена почетная стража вокруг русского царя.
* * *
В ту осень в Ливадии пребывала государева семья, и кажется, вся знать съехалась в Ялту.
Гостиницы были переполнены. Мне с трудом нашли скромную комнату на даче Фролова-Багреева, но хотя бы и в шалаше поселили, мне было бы хорошо. Благословенный край. Воздух напоен дыханием моря и буксуса[25]. Средь темных кипарисов высятся прекрасные белые дворцы. Неумолкаем нежный звон цикад.
Помню ясный ласковый день в первых числах октября. Я стояла на набережной, прислонясь спиной к железной решетке, слушала близкий плеск волн и глядела на толпу, тесно плывущую мимо. Такая праздничная и нарядная, такая беззаботная и красивая толпа «бархатного сезона».
Какие прелестные женские головки, какие легкие, как облако, наряды! Приятно звенят шпоры ловких гусар, рослых кирасир. Неслышно скользят конвойцы с перетянутой талией. Проходят загорелые, крепкие моряки в белых, как кипень, кителях. По свежеполитым торцам шелестят экипажи и слышен приятный, дружный топот копыт.
Но вот со стороны Ливадии послышался частый, рассыпчатый топот иноходца, и мимо нас промчался весь в золоте седой татарин. Его появление возвещало, что едет царь. Вся толпа вдруг зашумела, все бросились занять места, откуда лучше можно увидеть государя и его семью.
Экипаж, в котором сидел государь, приближался, а за ним катилась восторженная волна могучего «ура». Мурашки побежали у меня по телу, и к горлу подступили нечаянные слезы от этой волны человеческих голосов, выражающих любовь.
Головы обнажились, и в воздухе веяли шапки, платки, и лилась, лилась широкая, ликующая волна – ура-а-а!
Государя провожали в Италию, а я стояла в толпе и утирала слезы.
Затем, протолкавшись сквозь толпу, увидела хорошее, ласковое, знакомое по портретам лицо государя.
Знала я это лицо уже давно, еще тогда, когда я Дёжкой называлась.
И вспомнилась мне большая, с голубым глянцем, лубочная картина на белой стене нашей избы. А на той картине была изображена семья императора Александра III.
Помню, давно, в предвечернюю пору вошел в избу отец и тревожно сказал:
– Зажигай, мать, лампаду, помолимся Господу за спасение царской семьи.
Я прижалась к матери. Отец рассказал, что известили на сходе о злом умысле на царскую жизнь в Борках и о том, как царь-богатырь один поднял вагон и вынес из-под него свою младшую дочь.
Мы стали на молитву.
Опустился на колени мой отец, старый николаевский солдат. Пред образами, освещенными тихой лампадой, шептала мать горячие молитвы: печать креста творила с верой и клала поклоны. На нас смотрел Николин лик, и будто угодник добрый серчал. Мать помолилась, подошла к голубой картине.
– Вот, видишь, Дёжка, наш государь, а в голубом матушка-царица. За ней наследник, а вот младший. Миколай, вишь, вьюноша совсем. А на коленях у царя дочь ихняя Ольга, самая меньшая, которую из-под вагона царь вынес. Ах, деточка бедная!
Мать суровой ладонью гладила картину.
– А вот, Дёжка, постарше царевна, Ксения, Аксютою по-нашему зовут. Спаси их, Господи, и помилуй, – шептала мать и