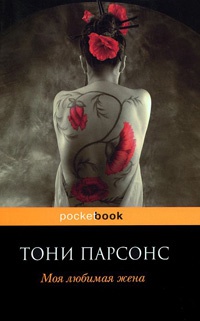— Нет, — и стал шептать ей слова любви, прощения и надежды, хотя сам имел право обещать лишь первую из этих благодатей.
Моя речь возымела свое действие. Элла постепенно успокоилась, поверив мне, и в этом заключалась ее самая большая ошибка. Она не знала, быть может, не хотела знать — а я, хоть и подозревал, не открыл ей этой истины, — что единственный человек, в чьей власти даровать ей прощение, — это Сара.
Элла была женщиной гордой, а гордость пагубна для человека. Но, как выяснилось позже, в конечном счете не гордость сгубила Эллу. Недостаток доверия к миру, ставший следствием предательства по отношению к самой себе, — вот что привело к катастрофе. Тот, кто много отдает, ждет, что ему многое воздастся; тот, кто отнимает, ждет, что у него тоже отнимут.
Успокаивая Эллу, я под ограждающей лаской слов утешения скрыл от нее опасность, которую заключали в себе ее поступки. И этим оказал дурную услугу. Лучше б я заставил ее ближайшим поездом вернуться в Лондон и признаться во всем Саре и Чарльзу Стэнхоупу — а в тот краткий миг она выполнила бы все, что я бы ей предложил. Мучительная сцена с горькими слезами была неизбежна, но за ней непременно последовали бы разрядка и облегчение. Раны в душах обеих сестер вскрылись бы и со временем, несомненно, очистились бы от гноя.
Мои утешения помогли Элле успокоить, смягчить чувство вины, а потому несправедливость, совершенная в отношении Сары, осталась невозмещенной и рана продолжала гноиться.
Я гладил ее волосы, целовал нежную стройную шею и думал лишь о том, как остановить слезы и исцелить боль. Я не знал, что слезы бывают очищающими, был слишком молод и неуверен в себе, чтобы не успокаивать Эллу, а направить на верный путь.
Мое утешение сделало ее признание, а следовательно, и прощение сначала необязательным, а затем и вовсе невозможным. Но откуда мне было знать, что, поступив иначе, я мог спасти нас всех?
9
Вскоре после моего возвращения из Корнуолла — буквально через день или два — зазвонил телефон, и, сняв трубку, я услышал голос Камиллы Бодмен — с придыханиями и долгими гласными.
— Дорого-о-ой, где ты был? — проворковала она.
Между нами существовал негласный договор: по истечении периода, на протяжении которого мы не общались, винить за молчание полагалось меня. Прошло десять дней с тех пор, как я сопровождал Камиллу на прием к Харкортам, после с почтительной улыбкой оставил у дверей ее дома и мы пообещали друг другу «не пропадать».
— Сидел дома, Камилла, — солгал я. — Просто был очень занят.
— Снова музицировал?
Камилла разделяла художественный труд на три широкие категории: музицирование, рисование и литераторство.
— Да. Мне нужно практиковаться. Скоро начинаются занятия в Гилдхолле.
— Я знаю, дорогой.
— Чем могу быть полезен?
— Ты не просто можешь быть полезен. Мне только что пришла в голову просто фантастическая идея.
— Да-а? — Я с осторожностью относился к фантастическим идеям Камиллы.
— Понять не могу, почему не подумала об этом раньше.
— Да-а?
— Ты просто обязан познакомиться с одним человеком. Вы друг другу несказанно понравитесь.
В своих общественных начинаниях Камилла действовала искренне, от чистого сердца, хотя не всегда из чистого альтруизма.
— С кем? — спросил я, заинтересовавшись. Ее энтузиазм был заразителен.
— С моей мамой, — ответила она просто.
Так я попал на свой первый «утренник» у Бодменов.
Оказалось, что дом на Кэдоген-сквер не так уж сильно пострадал в ходе празднования дня рождения Камиллы. Если кто-то и ронял на пол сигареты или проливал коктейли с шампанским, результаты этих бедствий были искусно замаскированы или вовсе удалены. Впечатление, будто дом пережил опустошительный набег неприятеля, рассеялось.
Я в полной мере ощутил это на следующий день. Меня впустила горничная, улыбнулась и исчезла, как только дверь за мной закрылась. Мебель и украшения вернулись в зал и гостиную — оба помещения теперь представляли собой беспорядочное нагромождение предметов Викторианской эпохи. Сквозь все эти безделушки в проем открытой двери, ведущей в комнату, во время вечеринки служившую танцевальным залом, я увидел группу из шести или семи мужчин и женщин, сидевших на неудобных стульях полукругом вокруг хозяйки. Реджина Бодмен — в полном соответствии со своим именем — выглядела по-королевски величаво и моложаво. Она говорила вежливо, но властно, как подобает даме, занимающей высокое положение в обществе.
— Считаю, что слово «салон» в английском языке совершенно неуместно, — говорила она, когда я вошел.
Я молча ждал, пока хозяйка меня не заметит, но она не спешила сделать это, и тогда я кашлянул. Она обернулась — медленно, осторожно, словно боялась испортить прическу.
— Вероятно, вы — мистер Фаррел, — произнесла она ласково, протянула правую руку, я пожал ее, и миссис Бодмен указала мне на стул слева от нее. — Моя дочь очень высоко отзывалась о ваших талантах.
— Спасибо, — поблагодарил я и занял свое место в кругу беседующих.
Хотя разговор, который мы вели в то утро, был блестящим и искрометным, тема его стерлась из моей памяти. И лица людей, проявлявших в нем столь дивное красноречие, я тоже вспомнить не могу. Напрягаю разум, пытаясь представить себе Эрика, — и не получается. Однако сцена в целом сохранилась в моей душе весьма живо.
Я вижу перед собой Реджину Бодмен, покровительницу бедных художников и прочих безнадежных страдальцев, беседующую с группой преданных просителей. С них можно было написать аллегорическую картину и повесить ее на одной из стен громоздкого викторианского особняка: «Блеск царствующей благотворительности». Впрочем, самой Реджине не был свойствен викторианский стиль, характеризовавший ее мебель; с нами, как и с другими ее подопечными, она обращалась весьма современно и мыслила рационально, хорошо сознавая перспективы каждого. Она занималась организацией общественных благотворительных мероприятий, но находила также время и желание покровительствовать талантам.
В то утро миссис Бодмен взяла меня под свое крыло, угостив милостивой улыбкой и чашкой кофе. И то и другое я принял с радостью, а потом с готовностью присоединился к беседе, поскольку сообразил, какую выгоду могу получить от этого знакомства: Реджина, в отличие от своей дочери, испытывала глубокое уважение к культуре и, хотя сама и не была выдающимся мыслителем, любила таковым казаться. Поэтому она охотно слушала людей думающих и покровительствовала тем, кто облекал свои мысли в слова, принося ей тем самым практическую пользу.
В широкой благотворительности миссис Бодмен существовала конкретная система взаимных компенсаций, о чем я догадался, увы, только начав раскланиваться. Реджина относилась к числу немногих мудрых людей, понимавших, что безвозмездная щедрость подавляет и лишает воли того, на кого она направлена, и к тому времени, когда мы стояли в холле, прощаясь с хозяйкой, она взяла с каждого обещание, что он посодействует делу, не имеющему ничего общего с его профессиональными успехами. Это соглашение ничем не закрепили, просто оно существовало. Реджина просила — и вы говорили «да».