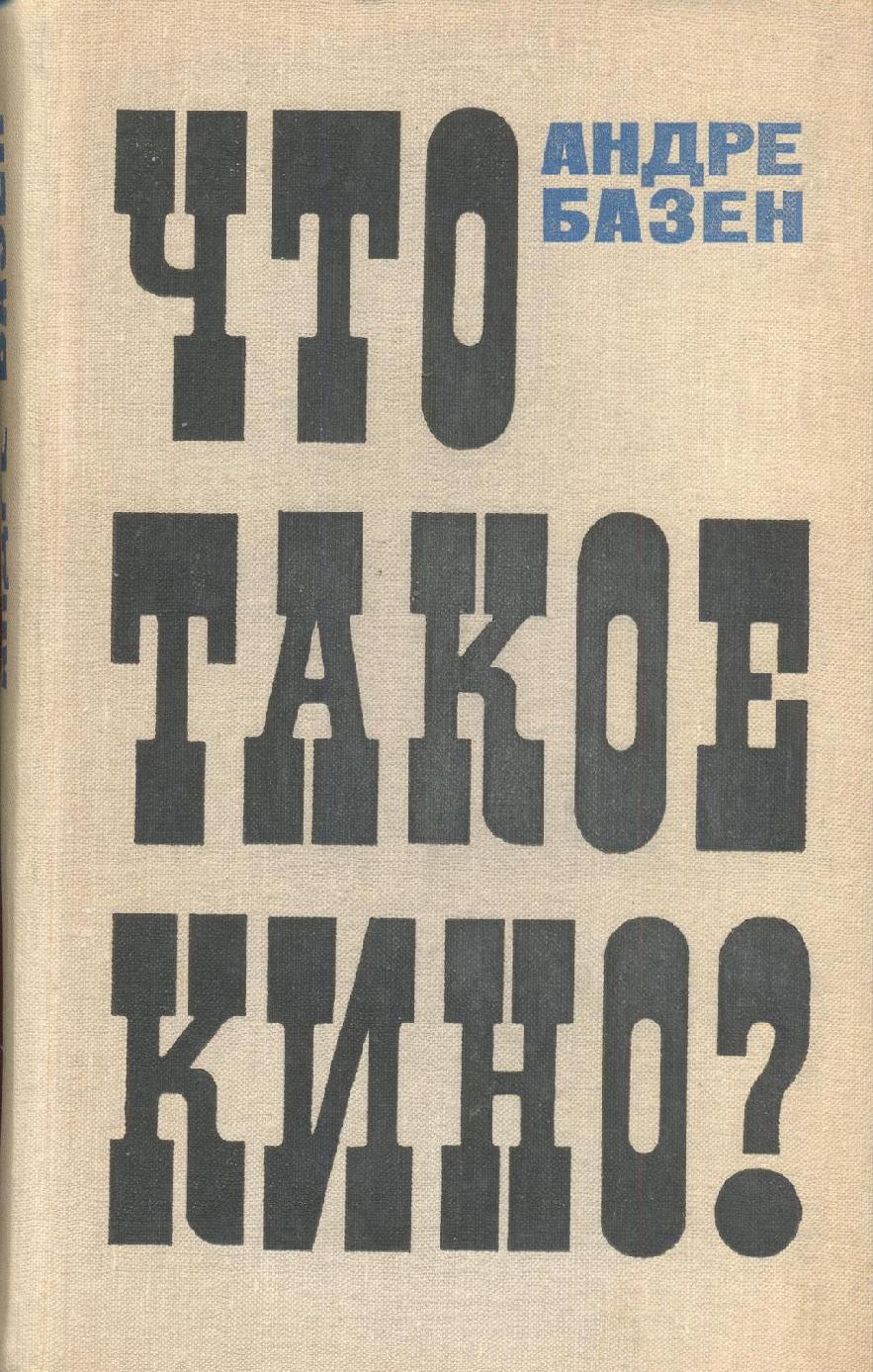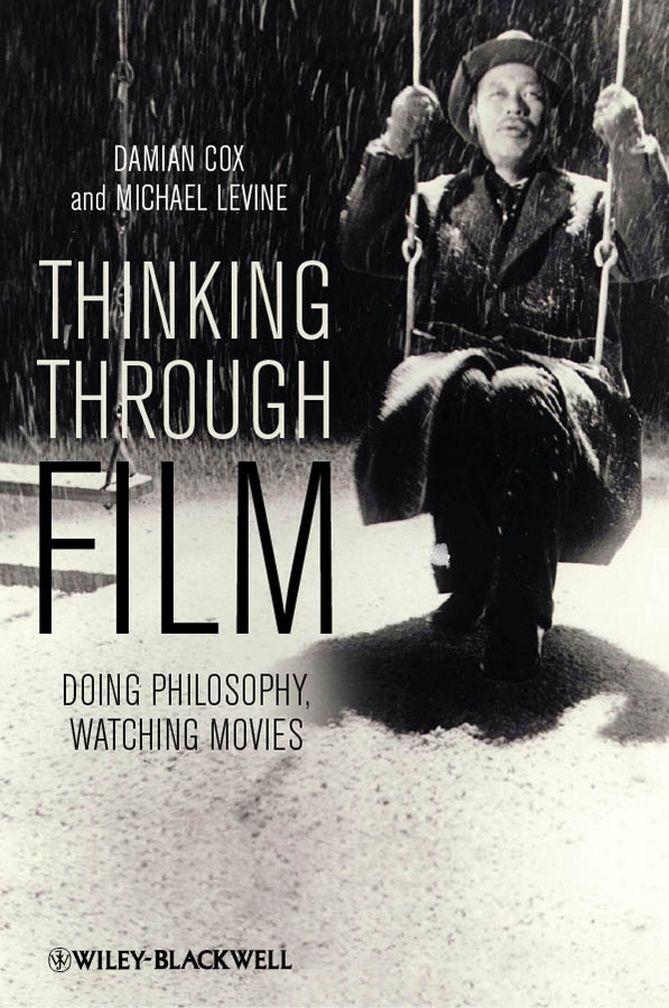сохранить это напряжение или даже усилить, как сделать так, чтобы оно не ослабло перед заключительным актом, который, по задумке режиссера, должен разыграться в другом месте? И вот оба, сын и мать, садятся в пролетку и мчатся прочь, туда, где уже всё готово к следующей сцене. Исступленная гонка становится символическим отражением исступленной тоски. Быстрее, быстрее! Темп нарастает, а вместе с ним растет нетерпение. Мелькают дома, деревья, люди, упоенные счастьем мать и сын оставляют позади весь мир. И когда они наконец прибывают – словно реактивный снаряд, залетевший в комнату – напряжение на экране в этот момент предельное.
Лошади, автомобили, корабли и самолеты играют в кинематографе существенную роль, и не только в силу своей «достопримечательности». Когда они в движении, перемещается в первую очередь человек – это его же жесты, но только более широкого радиуса. Масштабы выразительных возможностей приобретают неслыханные формы.
Погоня
Только кинематограф обладает всем необходимым, чтобы передать великое ощущение скорости. В реальности мы видим от движения только миг, только один его срез. Но фильм дает нам возможность бежать вместе с атлетом и ехать вместе с самым быстрым автомобилем. Движение в кинематографе – это не только некий спортивный или «естественный» акт, иногда это самое красноречивое выражение эмоций и ритма жизни.
Отсюда то нервное напряжение, которое охватывает зрителя во время погони, самого проверенного и действенного средства. Нет искусства, которое сообщало бы чувство опасности так же, как искусство кино. В любой другой художественной форме оно или есть, или нет. Но неумолимое приближение рокового момента, чувство надвигающейся угрозы, пока невидимой, но уже ощутимой, – это характерно только для кинематографа. В сценах погони минуты страха и надежды можно дробить фразами вроде «уже скоро» или «по-прежнему ничего», дробить на секунды, тем самым делая их видимыми, исполненными драматизма, или же растягивать, являя зрителю не только повороты судьбы, но и ее саму в беззвучном потоке времени.
Если в кино всё определяет конкретное физическое действие, то фильмы в спортивном и акробатическом духе, бесспорно, находятся на особом счету, как высшая форма выражения развитого тела.
Когда речь идет о фильмах, в фокусе которых не только достопримечательное, но также человеческие судьбы, проступает один щекотливый момент. Чем значимее спортивные достижения и чем пристальнее к ним интерес, тем более они отдалены от драматического сюжета; они теряют выразительность, наделяются самостоятельным смыслом и в конечном итоге производят такой же эффект, как номер варьете, добавленный к основному спектаклю.
Когда преследуемый прыгает через ров, это еще погоня, увлекательная и держащая в напряжении. Но если прыжок необычный, бьющий все рекорды, мы уже думаем только о прыжке, а не о том, для чего он сделан. Центр внимания смещается, и весь сюжет предстает как случайное сопровождение к «сенсации».
В исполняемых героем атлетических номерах не должно проступать ничего спортивного, даже если речь идет о сложнейших кунштюках. Спорт означает движение, в этом его самоцель, но как движение выразительное он неприемлем. Эту грань, порой необычайно тонкую, режиссеру важно уметь чувствовать. Боксирующий ни при каких обстоятельствах не должен выглядеть как боксер, бегущий – как бегун. В противном случае зрителю невольно будут привиты профессиональные стандарты, которые заставят его сомневаться в подлинности происходящего и лишат сюжет присущей жизни непосредственности.
Сенсации
Сенсации – это достопримечательности, возбуждающие и захватывающие нас еще и потому, что мы иллюзорно верим в подлинность и оригинальность показываемых кадров. Не каждый день тебе доводится быть свидетелем столкновения двух поездов или наблюдать, как обрушивается мост, как подрывается башня или как прыгает с пятого этажа человек. Узнать, как всё происходит в реальности, ужасно любопытно. И потому к искусству эти яркие сюжеты отношения не имеют.
Сенсации притягательны не только своей диковинностью. Иные виды бабочек или цветов случается наблюдать не чаще, чем большой пожар, тем не менее эффект, производимый ими на экране, гораздо скромнее.
Чувство ничем не угрожающей опасности – вот что нас особенно влечет. Как при виде разъяренного тигра, который мечется за решеткой клетки, примерно так же смотрим мы в глаза смерти, прикованной к экрану, мы прекрасно осознаем, что ничего страшного не случится, и испытываем приятную дрожь. В нас говорит банальное, анималистическое чувство превосходства: в кино мы наконец-то осмеливаемся заглянуть в глаза смерти, от которой в реальности всегда отворачиваемся.
Опасность сама по себе тоже обладает красноречивой физиогномикой, и придать ей выражение – задача режиссера и оператора. Ведь иные страшные катастрофы с виду таковыми не кажутся, подлинные масштабы ужаса открываются только когда мы имеем дело с последствиями. Всё это не для кино. Но есть одна загадочная деталь: человеку понятна физиогномика элементов. Мы так же можем уловить гнев или зловещую угрозу в материи, как подмечаем ее в облике наших собратьев и животных. Это похоже на шестое чувство, которым наделены и звери, которые задолго чуют приближение неведомой опасности. Прозорливость в умении читать материю – непременное качество хорошего режиссера.
Сенсация, реализуемая исключительно как художественное средство, может отметить точку крайнего напряжения, стать восклицательным знаком, фиксирующим в повествовании кульминационный момент. В музыкальной композиции это барабанная дробь, удар в литавры. Человек использует в качестве выразительного средства всю материю, так что даже сломанные балки или камнепад становятся символическим отображением его чувств.
Разумеется, это осуществимо только при условии, если внешняя и внутренняя катастрофа приходятся на один и тот же момент, и взрыв снаружи и внутри гремит одновременно. В противном случае сенсация оборачивается неким довеском – аналогично спортивным достижениям, о которых уже говорилось выше, – и обретает самостоятельность, тогда мы имеем дело с эпизодом, оторванным от основного сюжета, волей-неволей приковывающим наше внимание и мешающим. Чем громче сенсация, тем реальнее угроза – всё как с феноменальными успехами в спорте.
Если возникает чувство, будто действие сводится только к этому моменту, умаляется впечатление не только от картины, но и от самой сенсации. Ведь и с шутками так же: когда они спонтанны и рождаются в непринужденном разговоре сами собой, эффект от них намного сильнее, чем от заранее заготовленных.
Есть ощущения (и, похоже, они чисто физиологического свойства), которые сообщают нашим нервам о точно подмеченной сенсации и таким образом усиливают ее эффект. К таким в первую очередь относится головокружение, которое в фильме вызывается с помощью особого оптического приема. Величайшая катастрофа, взятая из реальной жизни и помещенная в реальность экрана, никогда не произведет на нас такого впечатления, как бездна, разверзающаяся на наших глазах, как если бы мы стояли на самом ее краю. Когда вдали рушится башня, это не так пугает, как балка, которая летит вниз и, кажется, вот-вот выпадет из экрана прямо на нашу голову. Режиссер, конечно же,