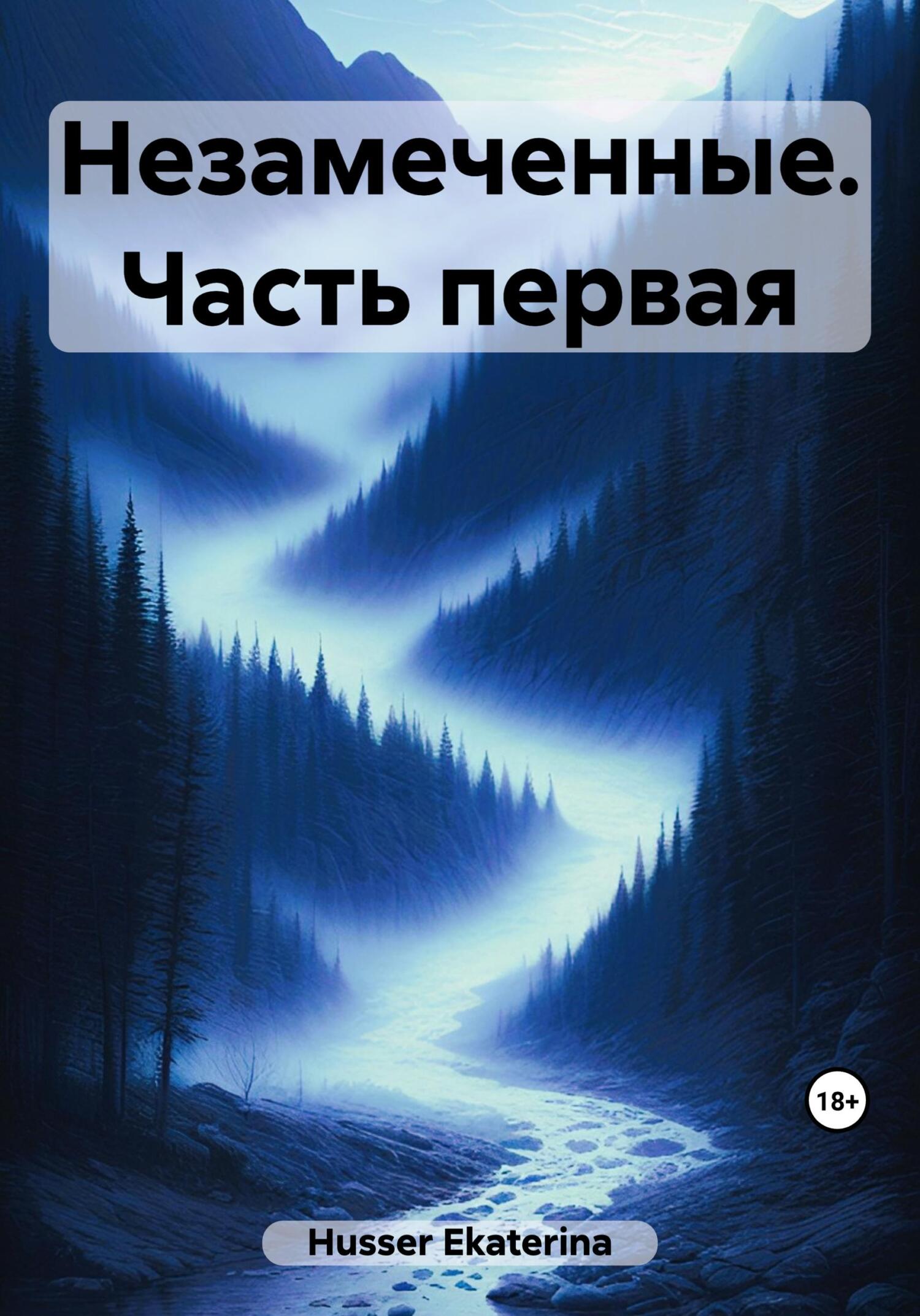людям больше всего хотелось стереть их из памяти. Правда, по знаменательным датам вспоминали имена павших сопротивленцев, партизанских командиров и тех, кто им помогал, возводились памятники советским освободителям, но о том, куда делась бабушка Эльза и через что прошла тетя Гана, никто не говорил.
По крохам и обрывкам я складывала картину того, что, вероятно, произошло, и начинала догадываться о том кошмаре, что выжег клеймо у тети Ганы на руке и привел к тому, что она разучилась жить, а могла только выживать. Я поняла, почему она вечно таскает в кармане ломоть хлеба и отворачивается, завидев на улице мужчину в униформе, и почему однажды в первый год моей жизни у нее она сожгла мою полосатую пижаму на кухонной плите.
— Я дала тебе ее постирать, а не сжигать, — кричала я на тетю, застав ее за этим странным занятием, но от пижамы уже остались только обугленные пуговицы. — Ты вообще ничего не понимаешь, эту пижаму мне подарила мама.
В глазах у меня стояли слезы ярости. Тетя ничего не возражала, и это сильнее всего приводило меня в бешенство.
— Ты можешь хотя бы ответить?
Гана наморщила лоб и медленно открыла рот, но так и не издала ни звука. Она несколько раз открывала и закрывала беззубый рот, как рыба на суше. Ее безжизненные глаза подернулись поволокой, и тогда я первой выбежала из кухни. По выражению ее лица я поняла, что тетя в своем праве, это я поступила плохо, и я чувствовала себя виноватой.
В гимназию я записалась за компанию с Ярмилкой и еще потому, что не знала, куда пойти учиться, чтобы стать писательницей. Хотя я спокойно относилась к учебе, у меня были на удивление хорошие оценки, к тому же, как сирота, я, несмотря на буржуазное происхождение моего отца, могла беспрепятственно продолжать образование.
В первый день учебы Ярмилка, как обычно, ждала меня перед домом. Я сразу заметила, что она без пионерского галстука. По таким торжественным случаям, каким бесспорно считалось начало учебного года, пионерский галстук был обязательным атрибутом. Не носили его только те, которые не заслужили — хотя я никогда толком не понимала чем, — но таких и в гимназию не принимали.
— К этому платью он совсем не подходит, — объяснила мне Ярмилка и приоткрыла сумку, в которой лежал аккуратно выглаженный галстук. — Повяжу уже в школе.
Она пригладила широкую юбку, поправила ремешок сумки на плече и смущенно добавила:
— И знаешь что? Не называй меня больше Ярмилка, я уже не маленькая. Тебя же никто не называет Мирушка.
— Попробую переучиться, — сказала я и подумала, что была бы не против, если бы кто-нибудь называл меня так ласково.
Но у меня была только тетя Гана, а она ко мне обращалась только изредка, а уж развернутого предложения от нее дождаться можно было только в случае острой необходимости.
Мне не раз приходило в голову, что она бы, наверное, вообще не заметила, если бы я исчезла из ее жизни. День за днем я возвращалась в тихий дом к молчащей женщине, которая даже не смотрела на меня. Праздники и дни рождения у нас, разумеется, не праздновались, и все мои попытки добиться хотя бы скромного празднования и подарка терпели неудачу. Хотя я о своем приближающемся дне рождения заранее твердила неделями и постоянно расписывала, какие подарки получали мои друзья, тетя меня даже не поздравляла. В день моего тринадцатилетия тетино равнодушие так меня огорчило, что я удрала на чердак нашего старого дома с твердым намерением никогда больше добровольно не возвращаться к тете.
— Я останусь на чердаке навсегда и умру тут, — рыдала я.
— Не волнуйся, я буду тебя навещать и приносить тебе еду, — утешала меня Ярмилка.
Ее слова меня несколько удивили, я-то рассчитывала, само собой, что Ярмилка будет меня отговаривать от этой затеи. Теперь, чтобы не потерять лицо, не оставалась ничего другого, как действительно торчать на чердаке.
Ночью чердак выглядел совсем не так, как днем. К счастью, на дворе был июнь, так что темнело поздно, и ночи стояли теплые, но ужаса, который охватывал меня при каждом шорохе и скрипе, я бы и врагу не пожелала. Свет луны проникал внутрь сквозь световые люки, предметы отбрасывали зловещие тени, и старое дерево тихонько поскрипывало. Я не сбежала оттуда только потому, что боялась пересечь весь чердак и спуститься по лестнице мимо заброшенной квартиры и мастерской. Вместо этого я сжалась в комочек на железной кровати, не смея пошевелиться, чтобы кровать не заскрипела и не привлекла ко мне внимание страшилищ, скрывавшихся в темноте. От страха я не могла уснуть, и как только рассвело, пулей выскочила из дома и помчалась по пустынным утренним улицам к тете Гане. Я надеялась, вдруг она не заметила моего отсутствия. Теперь мой поступок казался мне глупым и ребяческим.
Тетя Гана не спала. И даже не переоделась в ночную рубашку. Она сидела за кухонным столом, и, хоть не вымолвила ни слова, я поняла, что она меня ждала. И что волновалась за меня.
Я опустилась перед ней на колени, обвила руками тонкую талию и заплакала.
— Прости, пожалуйста, прости меня. — Я уперлась лбом в ее костлявые колени под черной юбкой и сотрясалась от рыданий.
Тетя ничего не сказала. Но подняла руку и погладила меня по голове.
Я знала, как она ненавидит любые прикосновения, и понимала, что это высшее проявление расположения, которого можно от нее добиться. В то утро после своего тринадцатого дня рождения я поняла, что меня все-таки кто-то любит.
В гимназию, расположенную почти на окраине города, мы могли попасть двумя путями. Утром, когда надо было спешить, мы шли напрямую: от площади по улице, идущей вдоль парка приюта для глухих. Высокое красивое здание с башенками, построенное на склоне холма, выглядывало из крон деревьев и напоминало таинственный замок. Но на обратном пути мы предпочитали идти через рабочий квартал Задруга: бродить там среди низких домиков, заглядывая за частокол в крошечные дворики и палисадники. Так дорога часто растягивалась с пятнадцати минут на добрых