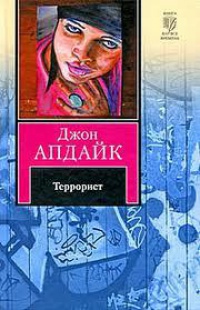сопок, на дорогу, на могучие руки шофера, спокойно повертывавшие баранку. Во всей его осанке чувствовалось немалое достоинство. И если бы Чадин изредка не заговаривал, то шофер наверняка бы так и промолчал весь путь.
— Сигары употребляете?
— Вообще табаком не балуюсь.
— А я вот, что покрепче… Кхэ!
Шофер скосил глаза на Чадина — и только, и опять уже смотрел прямо вперед.
— И далече ль, до совхоза?
— Ровно двадцать кэмэ!
— Автобусы тут у вас хоть какие курсируют?
— Будут. С нового года.
— Понятно. И что за совхоз?
— Мясцо! Говядинка.
— Ясно. А как насчет охоты в здешних местах?
— Строго!
Шофер снова покосился на Чадина, и тот в одно мгновение заметил неопределенную улыбку на губах шофера. Чадину отчего-то стало неловко, и он, как бы самооправдываясь, поторопился объяснить попростодушнее:
— Да я-то, собственно, и не охотиться, а так, поближе к природе захотелось… С ружьишком побродить, фотоаппаратом пощелкать… Я ведь заврестораном, надоело, знаете ли… — Он вдруг засмеялся неестественно, как будто закашлялся. — Устал я от этих бифштексов, ромштексов и разнокалиберной публики… Хочется самого простого: картошечки горячей с огурчиками, молока, с хлебом… И тишины. Истосковался я по деревенской тишине.
— Верю, — сказал шофер.
Из дальнейшего скупого разговора выяснилось: зовут его Максимом, у него семья, свой большой дом, места хватит, так что он, городской товарищ, может на месяц определиться у него, Максима; и уже подъезжая к поселку, как бы между прочим, просто так и задушевно сказал: «Ладно, переходим на «ты». Тут мы все совхозовские, как свои…»
Дом Максима стоял в конце длинной улицы, добротный дом, обшитый досками, с голубыми ставнями, затейливо застекленной верандой и высокой кирпичной трубой; синевато-пепельный дымок тянулся из трубы ровно вверх, в студеное вечереющее небо.
Чадин, раздувая ноздри, втянул в себя этот морозный чистейший воздух, пахнущий древесным дымком, и таким родным и близким потянуло от этого морозно-дымного запаха! «И ничего не надо, ничего!..» — радостно подумал он, шагая за Максимом к его дому и повизгивая унтами по жесткому, притоптанному снегу.
Их встретил заливистым лаем лохматый, светло-рыжий пес. «Барс, свои!» — прикрикнул Максим строго.
Давно так не ужинал Чадин. Настя, жена Максима, крупная женщина с чуть продолговатым лицом, синеглазая, от которой пахло кипяченым молоком и детьми, подвигала свои домашние закуски гостю и мужу и приговаривала: «Ешьте, ешьте вдоволь, вы ж мужики, вот картохи, помидоры, груздочки соленые… Ешьте на здоровье. Дети, не балуйте! Нинка, позабавляй Юрика! Дорога к нам тряская, умаялись, поди-ка… Максим, послышь, Максим, завтра опять в рейс? Заездют они тя, впрягся ты им, что ль?»
В печке жарко догорали поленья; на столе дымилась рассыпчатая картошка в глиняной миске; от груздей и помидоров исходил тонкий чесночно-пряный запах.
Максим ел со смаком, туго шевеля скулами, похваливал чешское пиво, предложенное гостем, и на все Настины «тары-бары» отшучивался: «Ты, Настеха, не бери до головы… Нас, мужиков, не так просто заездить… Верно, Глеб?» И подмигивал ему.
Чадин, раздобрев от пива, вкусной еды и тепла, поддакивал: «Да, вот именно…», а сам думал этак вскользь о себе, будто о ком-то постороннем: «Но тебя уже заездили… Или ты сам…»
Но отвлекали детишки — три девочки и малыш: тот угукал в детской кроватке, кидал игрушки на пол, нюнил, а его сестрицы-хохотушки носились по комнате, закидывая пластмассовых зверушек и рыб опять в кроватку.
Максим ласково поглядывал на шалости ребятишек, еще ласковее — на жену, и взгляд его был добр и нежен. И это не ускользнуло от Чадина, напомнило о чем-то, укололо… Он даже провел по вспотевшему лбу пальцами, сложив их наподобие троеперстия. И опять поглядел на Максима, на улыбающуюся Настю, слегка подрастрепанную, с живым блеском синих глаз. Поглядел и еще выпил залпом два стакана пива.
После ужина, дотопив печь, Настя уложила спать девочек и стала убаюкивать малыша. Максим включил телевизор, но негромко, так, чтобы музыка никому не мешала.
Чадин вышел на улицу, постоял на крыльце, вслушиваясь, впитывая тишину и озирая звездное небо. Поселок светился бесчисленной россыпью огней; в конуре гавкнул и заскулил пес; вдалеке гудела машина. Чадин сошел с крыльца, не веря тому, что это он стоит здесь, что это вот сурово темнеющее на сопках впереди, на восток от поселка, сплошное, достающее чуть ли не до середины неба и касающееся звезд — и есть та самая тайга, куда он так стремился. Теперь он здесь, и все треволнения позади. Но Чадина неожиданно опять укололо сожаление о чем-то… О чем же? Если правда, что жизнь и заключается в недосягаемом, никогда полностью неосуществимом и в постоянном стремлении к этому, то ему, можно сказать, кое-что удалось — он достиг известных благ… Апатия еще не размагнитила его, в нем жила определенная хватка, хотя он и устал. Такая уж у него работа. Об этом он как-то обмолвился Шуре. Та съязвила: «Бедненький, на износ работает…» Он помнит: в нем вспыхнула злоба на нее. Теперь он подумал, что и ей ведь не легко, но она умалчивает об этом. И сейчас он пожалел ее. И… тут же вспомнил Улю, ее наивно-удивленные глаза; но вот что всегда смущало его: ее взгляд, пусть наивный немного, но такой, словно она в душу заглядывает. И однажды он понял, что с нею будет непросто…
Но сейчас об этом ни к чему. Спать! И ничего не надо, ничего! Хорошо выспаться, а завтра…
В предвкушении завтрашних, новых сюрпризов, почти счастливый, Чадин вернулся в дом.
Постелили ему в зале, на диван-кровати; и все так чисто, опрятно, не хуже, чем в его городской квартире, и он испытывал блаженство, что все отлично устроилось, и вот она, царица-тайга, рядом, а он в тепле, у гостеприимных людей, и они уже чем-то очаровали его: не дотошны в расспросах, приняли радушно и просто, как своего, и, кажется, довольны им, так ведь и он не охламон какой-нибудь, знает, что к чему, и еще в машине посулил хорошую плату за любой угол, а то, что Максим в ответ усмехнулся криво, вполне резонно: не все горожане столь щедры, и они, сельские, знают об этом, но показывать это не принято…
Чадину нравилась сейчас своя щедрость. Ребятишек он одарил гостинцами, какие имел, хозяев угостил красной икрой, балыком и чешским пивцом. Получилось маленькое семейное торжество. И он был здесь своим.
Чадин перевернулся на правый бок и закрыл глаза. Ему хотелось уснуть крепким здоровым сном, без сновидений, как он спал когда-то, в отчем доме; хотя, может быть, таких снов никогда и не было,