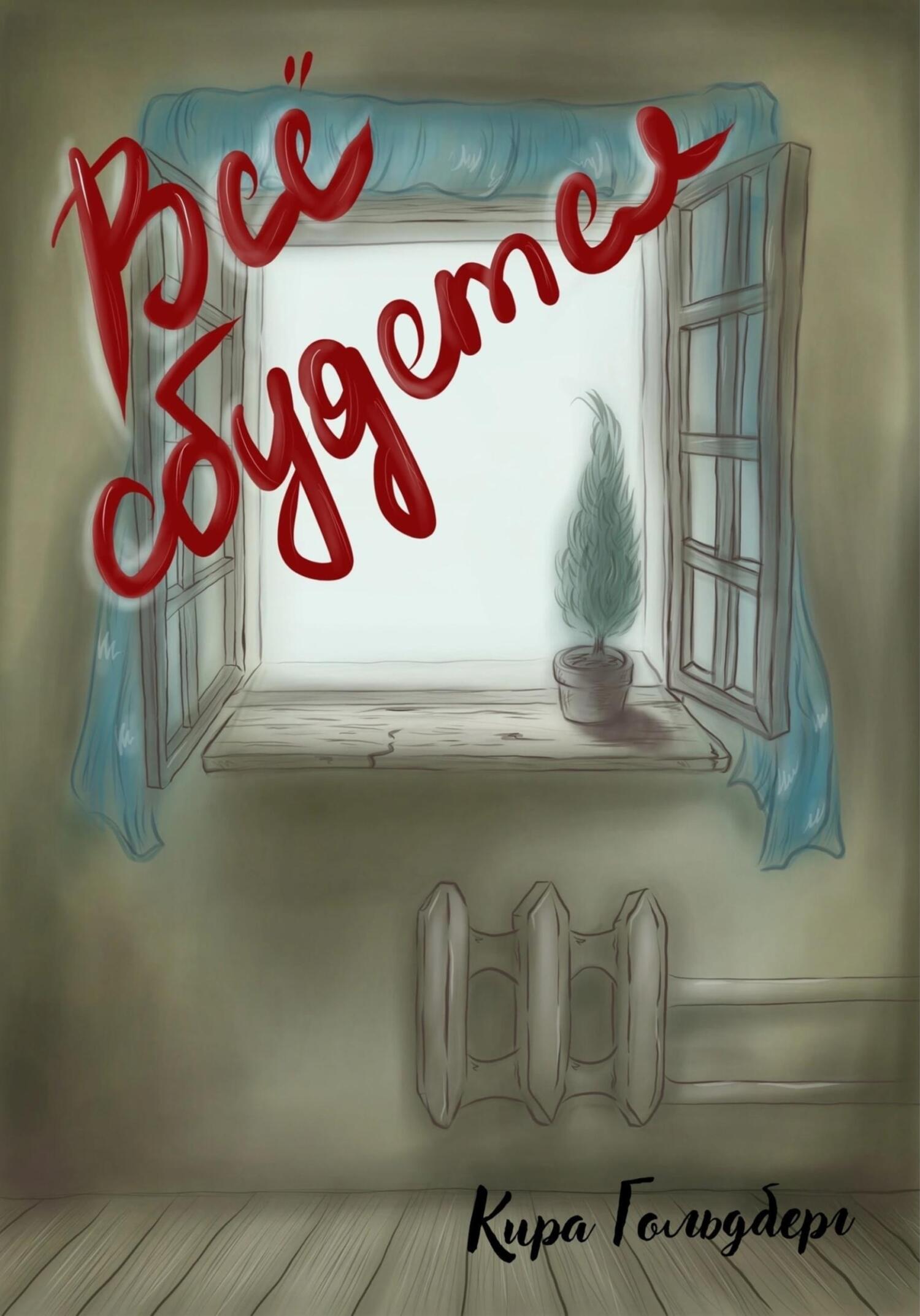сил стараюсь! — встрепенулся Охроменко.
— Ладно, ладно… Только, пожалуй, зря ты все это. Никаких красных поблизости здесь нет. Ты это от усердия, Охроменко…
— Так точно, от усердия!.. На счет красных, так беспременно воны тут где-нибудь бродят…
— Ну, ну, ищи!..
5
В назначенное время Кешка легко и беспечно бежал на поляну. В бурой траве уже ожили пострелы, поблескивая своими крупными бледными чашечками, а на склонах лиловел багульник, радуя пришедшей весною, помолодевшей землею и отрадою, что приходит с концом апреля.
Кешка впитывал в себя эту десятую весну свою, с которой, знал он, придет обычное деревенское оживление. Он складывал в уме, что вот уже на близкие лужки можно коней гнать в ночное, а за узеньким озерцом, наверное пожелтевшая земля выбросила нежный полевой лук. Он деловито соображал, что скоро-скоро мать погонит его кружиться на гнедке по вспаханной полосе, волоча поскрипывающую борону, и будет он покрикивать по-мужицки на лошадь, а вечерами, в избе, мать станет ладить ему паужин как работнику, который натрудил спину за день-деньской и которого нужно ублаготворить.
Легкие, привычные мысли нес с собой Кешка, скользя меж тихими, нарядными соснами. Словно крылья выросли за его плечами, так легко и радостно было итти в ясном и ласковом безмолвии леса.
Выйдя на полянку, Кешка оглянулся и хотел крикнуть. Но кто-то тихо окликнул его:
— Тише, Кешка!..
И рядом с ним вынырнул Митрофан Большедворский.
— Митроха! — вскрикнул Кешка, не умея сдержать радостного удивления.
— Да молчи ты, оглашенный! — сердито зашептал Митрофан. — Ведь за тобой солдат от самой деревни подглядывает.
— Солдат? — Кешка изумленно вытаращил глаза, в которых еще не угасла радость солнца и встречи с Митрофаном.
— Постой!.. Молчи!.. — зашептал Митрофан и припал к земле. — Вон он меж сосен-то!..
Кешка оглянулся и увидел вдали осторожно пробирающегося меж соснами, прячущегося за ними и поглядывающего по сторонам, солдата. В коренастой, нескладной фигуре и в желтой шапке его Кешка почуял что-то знакомое.
— Охроменко? — оторопело сообразил он.
Но солдат притаился где-то за сосной и пропал.
Митрофан потрогал Кешку за ногу и тихо сказал:
— Влипли мы с тобой… Ты слушай, паря: тебе беспременно надо в деревню обратно пробраться. Да так, чтоб солдат не доглядел. Там батьке моему да Тетериным братованам скажи… Ты только запомни хорошенько: пушшай они за пулеметами глядят. Они поймут, они знают в чем тут штука… Не перепутаешь?
— Нет! — тихо, но уверенно ответил Кешка, — не перепутаю.
— И еще, Кеха… как что в деревне случится, ты гони сюда. Да только помни — теперь за тобой следить будут, ежели доследят — ни тебе не сдобровать, да и нам кой-кому неладно будет…
— Я понимаю! — тревожно уронил Кешка и поглядел в ту сторону, где сторожил солдат. Фигура того мелькнула где-то дальше меж сосен. Видимо, солдат потерял Кешку из виду.
Митрофан перевернулся с боку на бок и осторожно вытащил из-за голенища ичигов отточенный ножик.
— На вот тебе, в тальниках прутьев для виду нарежешь. Авось, обманешь соглядатая-то. А теперь иди, Кеха, потихоньку по релке на сопку. Да виду не показывай, что чуешь за собой солдата… Иди, Кеха, дело, брат, шибко серьезное… ты не робей только!
— Да я не робею! — нерешительно протянул Кешка, и где-то в его маленьком сердчишке дрогнула впервые за его короткую неомраченную жизнь жуткая тревога.
— Я пойду…
— Ну, валяй!.. Не оглядывайся!.. — приободрил его Митрофан и осторожно пополз куда-то в сторону.
Кешка дернулся с места и пошел, минуя поляну, по пологому склону пригорка.
Давешние беспечность и легкость отлетели от него. Словно гири повисли на ногах, и так тяжко стало итти. А сзади чудился кто-то крадущийся, кто хитро притаился меж соснами, стережет и готовит какую-то беду.
Кешка, знал, что ему нельзя оглядываться, что должен он итти по-прежнему легко и беззаботно, словно нет за ним, там, сзади стерегущего, жадно подглядывающего человека. Кешка чувствовал, что как только он оглянется и тот, идущий сзади, поймет, что Кешка увидел его, то случится что-то страшное, пугающее.
И, однако, его тянуло оглянуться. Порою он приостанавливался и так хотелось взглянуть назад, убедиться, что там никого нет, что страшное миновало! Но Кешка превозмогал это желание и шел вперед.
Там, где подъем на сопку стал круче, Кешка передохнул свободнее. По склону росли кусты багульника и Кешка стал нырять меж ними, теряясь в их пахучей чаще. Отсюда он смог уже безнаказанно оглянуться назад. Но там, позади, он не увидал никого.
Радость обвеяла Кешку: «Отстал проклятый!» — подумал он.
Он сел на склоне. Вдали в зыбком воздухе яснели еще обнаженные бурые рощи, темнели пашни, избороздившие ровными размеренными полосами землю. Белела, пропадая в излучинах, речка, а дальше за рощей чернели гумна и кой-где бродил скот.
И видя вокруг себя свое, привычное, родное, Кешка стряхнул с себя недавнюю оторопь. Он повеселел. Он вскочил на ноги и, играя ножом, который поблескивал на солнце, пошел по сопке, пробираясь к склону, туда, где в мягкой, влажной долине, меж тальников бежала речка.
6
Утром, почти на рассвете, Кешку разбудил необычный шум на дворе. Сначала он ничего не мог сообразить и хотел было кинуться из избы посмотреть — чего это расшумелись в такую рань. Но в избе никого уже не было, со двора неслись отрывки громкой брани и бабий вой, и в памяти внезапно встала вчерашнее: встреча с Митрофаном, крадущийся Охроменко и потом, позже, торопливая, тайная передача старику Большедворскому поручения Митрофана. Кешка поспешно обулся и вылез в окно прямо в огород на задах избы. Оттуда он пробрался к амбарчику, влез на вышку и сквозь щель взглянул во двор, откуда неслись разроставшиеся крики, брань и вой.
У крыльца стояли офицеры, окруженные Охроменкой и группой солдат. Перед ними меж солдатами стояли с туго связанными за спину руками, оборванные, без шапок старик Большедворский и один из Тетериных. У ворот толпились бабы и ребятишки и несколько мужиков, оттесненные солдатами, а три бабы бились и ревели и все порывались вперед к офицерам: старуха Большедворская и две молодухи Тетериных.
Охроменко тыкал волосатым кулаком в бороду старику Большедворскому и яростно кричал. Офицеры покуривали папироски и вполголоса переговаривались меж собою, но Семен Степанович видимо прислушивался к брани Охроменки.
— Ты, гадина челдонская, говори, коли тебя спрашивают! — кричал Охроменко, наступая на старика. — Зачем ты коло пулеметов шлялся? Зачем ты, стерва, посты разглядывал? Спрашивают тебя, али нет?! Спрашивают!?
И он замахивался на старика, который молчал весь понурый, опаленный робостью.
Кешка глядел на все это и сердце его колотилось тревожно, как подшибленная