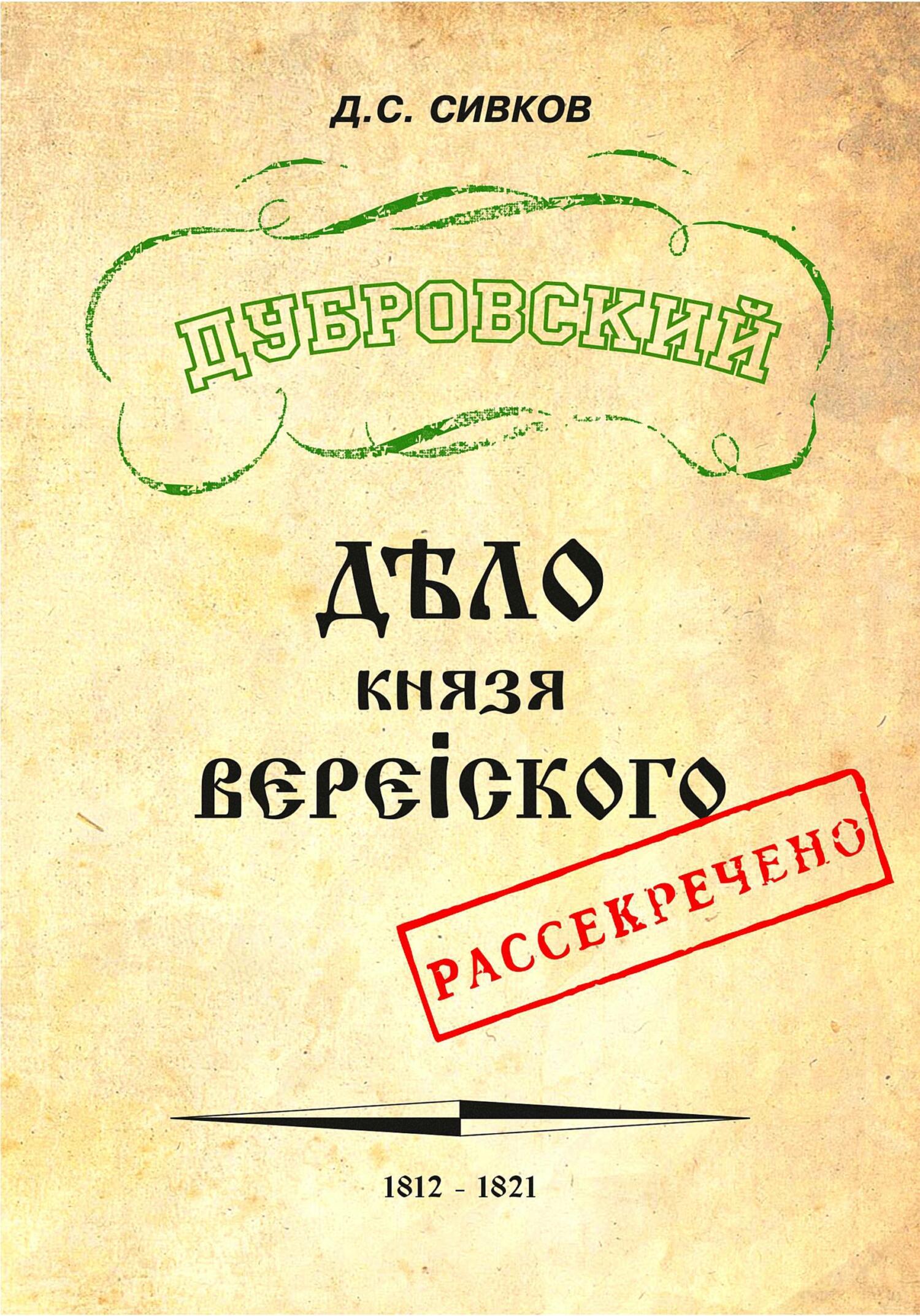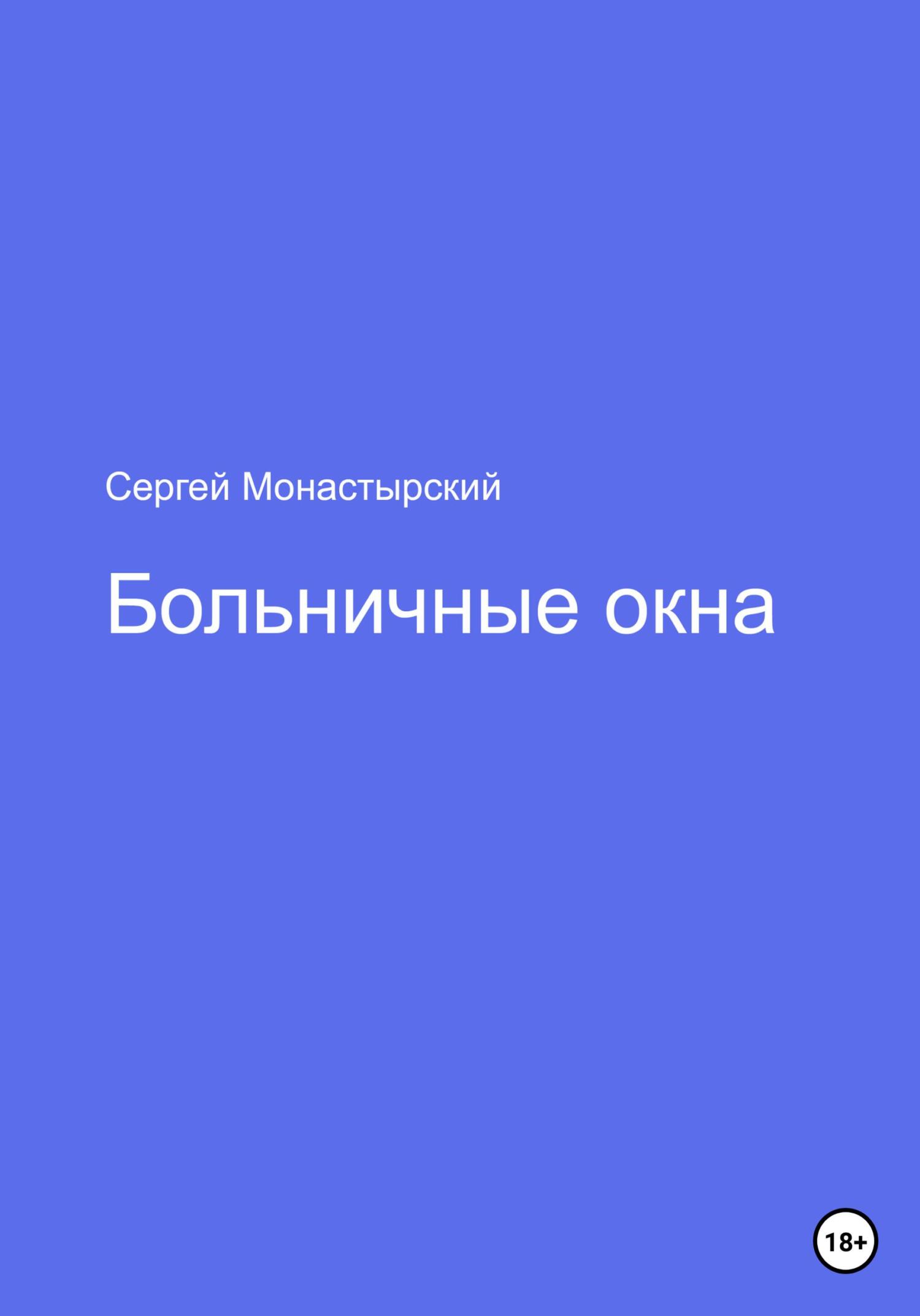стены, в тихом внутреннем дворе, – Шмидт в последнее время любил одиночество.
Дело тут было не в том, что Штумпфе избрал его предметом своих насмешек, дело было серьезней.
Шмидт посмотрел, как по стене, словно на экране, ползли бесшумные тени – розовые блики принимали странные формы лепестков, полукружий, овалов – это пожар по соседству запылал ярче, видимо огонь добрался до деревянных перекрытий.
Удивительное дело! Как меняется натура человека. Лет десять назад жена сердилась на него, что он не сидит по вечерам дома – едва придет с завода, переодевается, обедает и уходит на собрание, в пивную, и так каждый вечер – споры, слушание докладов. А теперь попади он домой, кажется, запер бы дверь и просидел бы год, не выходя на улицу. В чем тут дело? Прежде всего нет тех людей, с которыми он встречался, – вся верхушка профсоюза, все активисты из завкома кто в лагере, кто постарался подальше уехать, кто перекрасился в коричневый цвет. А с теми, кто остался, нет особого интереса встречаться – люди стали бояться друг друга, разговаривать можно о погоде, о покупке в рассрочку «народного автомобиля», обсуждать, что соседка варит на обед, кто из знакомых скуп, кто угощает гостей настоящим чаем, а кто желудевым кофе… Да и при этом страшновато: если зачастит к тебе приятель, то уж обязательно блокварт начнет совать нос в щели твоей двери и прикладывать ухо к стене твоей комнаты – какого черта они сидят и болтают, читали бы «Майн кампф».
Но вот что действительно интересно понять – изменились ли люди?
Черт его знает – это вопрос не простой. Кого спросишь, с кем поспоришь? Вот разве что кошку, да и она не захотела знакомства.
А может быть, эта скотина Штумпфе действительно прав – он, Шмидт, глуп как бревно? Всегда глуп был? Или теперь при наци поглупел? Или глуп для наци, а кое для кого и не так уж глуп? Было время, когда Шмидт считался заводилой в цехе, да не только в цехе, ведь он ездил в Бохум на съезд профсоюзов, его избрали делегатом от десяти тысяч человек. А теперь он ротное посмешище – «Михель».
Шмидт отбросил ногой кусок кирпича и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла дома, он постоял, посмотрел на пустынную улицу, на мертвые, выгоревшие глазницы окон, и чувство жестокой тоски, холода, одиночества сжало его сердце. Он хорошо знал это ужасное чувство, когда казалось, что и глубина неба, и сияние звезд, и солнечный свет, и воздух полей давят, мучат. Оно с особой силой приходило к нему весной – почему-то весной, когда молодая зелень, шум ручьев, мягкий, ласковый ветер, звезды в небе – все говорило о свободе.
Когда-то сын читал ему из учебника ботаники, что есть такие бактерии – анаэробы, не нуждающиеся в кислороде, они дышат азотом, отлично, весело и сытно живут на корнях бобовых растений. Видимо, есть и такие люди – анаэробы, дышат гитлеровским азотом! А вот он задыхается, не привык, ему нужна свобода, кислород!
Над хаосом бесчестия и невинной крови, над победной, сверкающей медью оркестров, над лающим криком команды, над пьяным хохотом, над воплями гибнущих старух и детей как странное видение вставало перед Шмидтом бледное лицо, высокий скошенный лоб человека, объявившего, что он и есть Германия, что Германия – это он.
Как же это случилось, что он, солдат Карл Шмидт, немец, сын немца и внук немца, любивший свою родину, не радовался победам Германии, а ужасался им?
Почему же такую тоску испытывал он сегодня ночью, когда стоял на часах в разрушенном городе, на берегу Волги и смотрел, как светлые тени огня шевелятся на стенах домов с выжженными, мертвыми глазницами окон?
Как ужасно одиночество!
Иногда ему начинает казаться, что он разучился думать, что мозг его окаменел, перестал быть человеческим мозгом. А иногда он пугается своих мыслей, ему кажется, что Ледеке, Штумпфе, эсэсовец Ленард могут, взглянув ему в глаза, вдруг понять, прочесть все, что происходит в его мозгу, в его душе. Иногда его охватывает ужас, что ночью в казарме он может проговориться, начнет бормотать во сне и сосед подслушает его, начнет будить товарищей, скажет: «Послушайте, послушайте, что говорит о нашем вожде этот красный Шмидт».
Вот здесь, в темном дворе, где за все время его дежурства не прошел ни один человек, он чувствует себя спокойно, здесь ни Ленард, ни Штумпфе не заглянут ему в глаза, не прочтут в них его мыслей.
Он снова посмотрел на часы: пришло время смены.
Но ведь он знает, чувствует, что не он один думает так. Есть ведь в армии такие же «михели». Но пойди поищи их! Все же они не болваны, чтобы открыто затевать разговоры на такие темы. Они живут, они мыслят, они, быть может, действуют! Как найти их?
Приоткрылась дверь, и на пороге появился караульный начальник. Свет пожара упал на его распахнутый мундир, нижняя рубаха его казалась нежно-розовой в этом свете.
Всматриваясь в сумрак, он позвал негромко:
– Эй, часовой Шмидт, пойди-ка сюда.
Когда Шмидт подошел к двери, караульный начальник, дыша на него водочным духом, проговорил необычайно ласковым голосом:
– Слушай, друг, тебе придется постоять здесь. Твой сменщик Гофман справляет свой день рождения и несколько утомлен, неважно себя чувствует сейчас. А? Ведь теперь лето еще, ты не замерз?
– Ладно, подежурю, – сказал Шмидт.
Утром Штумпфе прошел к приземистому дому, где ночевали офицеры. Часовой у двери был знаком ему.
– Ну как? – спросил Штумпфе. – В каком настроении сегодня командир, годится для разговора? Я принес важное заявление.
Часовой покачал головой.
– Тут было дело, – сказал он, – а в самый, что называется, момент всех офицеров срочно вызвал полковник, и до сих пор они не вернулись.
– Может быть, капитуляция Москвы?
Часовой, не расслышав, подмигнул в сторону двери:
– Девицы-то здесь, я их охраняю, обер-лейтенант Ленард сказал: «Нам предстоит маленькая получасовая операция, надо очистить вокзал», – и велел их постеречь, обещал вернуться к полудню.
Вскоре батальон подняли по тревоге, одновременно в сторону вокзала потянулись танки и артиллерия.
37
В два часа дня немцы атаковали вокзал. Командир полка подполковник Елин писал в это время итоговое донесение командиру дивизии о боевых действиях за последние дни и рассеянно слушал негромкий спор между адъютантом штаба и начальником санчасти полка, какой арбуз слаще – камышинский или астраханский.
Елин узнал об атаке сразу, на слух, еще до донесения командира батальона, по грохоту внезапного обвала авиабомб и шквальной артиллерийской