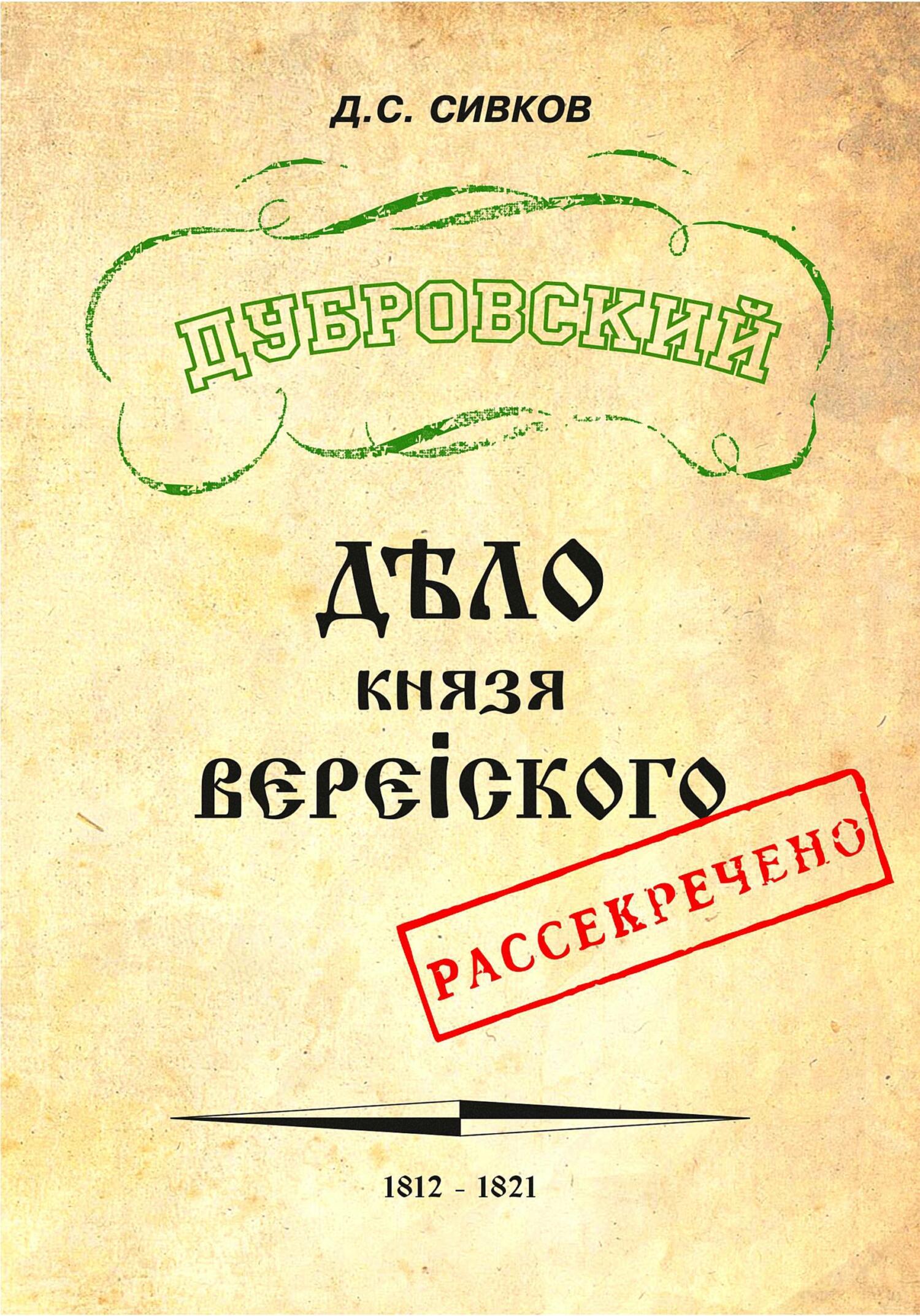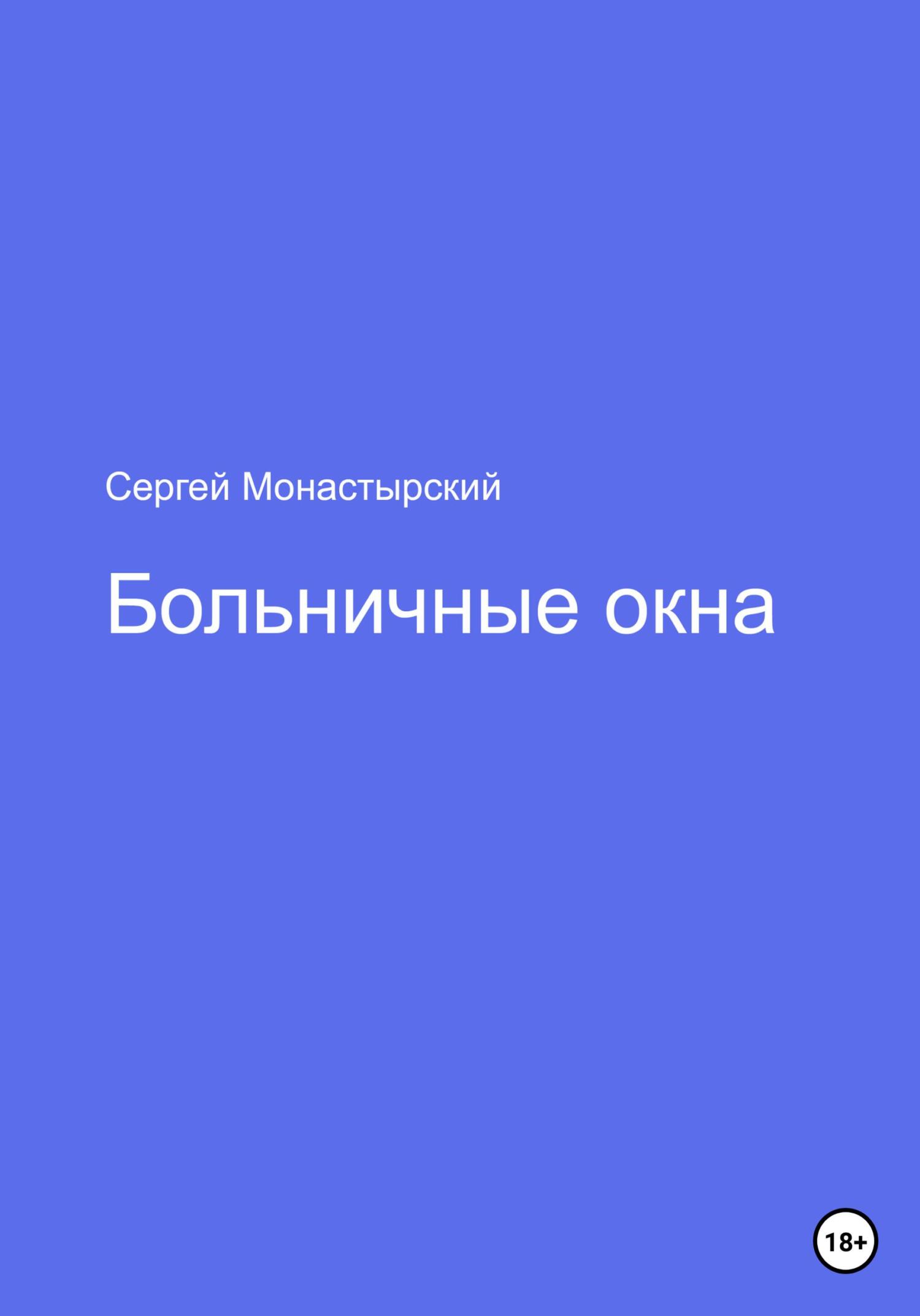меня папаша фабрикант, и я бы говорил лишь о долге, душе и дружбе.
– Видишь ли, – сказал Штумпфе, – вот в чем дело: я решил просить обер-лейтенанта. Пусть откомандирует меня, пока не поздно, я наверстаю потерянное. Я скажу ему, что это мой внутренний голос зовет меня. Он ведь любит такие вещи. Поглядите-ка, – и Штумпфе достал из толстой пачки семейных фотографий открытку. На фотографии изображалась огромная колонна женщин, детей, стариков, идущих меж рядами вооруженных солдат. Некоторые смотрели в сторону фотографа, большинство шло опустив головы. На переднем плане стояла открытая легковая машина, в ней сидела молодая женщина с черной лисицей на шее, резко оттенявшей ее светлую кожу и белокурые волосы. Подле машины стояли офицеры и глядели на идущих. Женщина полными белыми руками приподняла над бортом машины большеголовую, толстоносую собачку с лохматой черной шерстью. Дама, по-видимому, показывала собачке идущих, так матери подымают на руки несмышленых детей, чтобы потом через много лет напомнить им о виденном в младенчестве зрелище.
Фогель долго рассматривал фотографию.
– Это скотч-терьер, – сказал он, – у нас дома есть такой же, мама в каждом письме шлет мне привет от него.
– Да, вот это женщина, – со вздохом сказал Ледеке.
– Это жена моего брата, – сказал Штумпфе, – а брат – вот этот, оперся на раскрытую дверцу.
– Он похож на тебя, – сказал Ледеке, – я сперва подумал, что это ты. Но у него отвороты СС и чин не твой.
– Это снято в Киеве, в сентябре сорок первого, у кладбища, я забыл, как называется это место. Брат после этого пурима может твоему папаше одолжить несколько грошей, если ему понадобится строить новый цех.
– Дай-ка я на нее посмотрю еще, – проговорил Ледеке, – особенно на фоне этого шествия смерти, что-то притягивающее в ней есть.
– Встретил бы ее до войны, когда брат был актером в оперетте, а она работала билетершей. Ты бы посмотреть на нее не захотел. У женщины восемьдесят процентов красоты зависит от того, как она одевается, как завита, шикарная ли вокруг обстановка. И я хочу, чтобы моя жена выглядела после войны не хуже. Брат пишет, он сейчас в генерал-губернаторстве, и намекает, словом, я понял: ими организована солидная еврейская фабрика. Киев – это игрушечки… И он мне пишет: «Если тебя откомандируют, устрою тебя на своем предприятии». Поверь уж, Ледеке, у меня нервы выдержат.
– А по-моему, свинство, – вдруг крикнул Фогель, – кроме всего этого, существует ведь товарищество. После четырнадцати месяцев, связавших нас, взять да удрать, это все же подлость! Так не поступает солдат!
Ледеке, который легко поддавался влиянию чужих мнений, поддержал Фогеля:
– Еще бы, если вспомнить все, что было. Смысл сомнителен. Там не берут с улицы, попадешь ли, никто наверное не скажет. А здесь-то, уж будь уверен, ордена за этот самый Сталинград мы получим. Нет немцев, которые кончили бы войну в пункте восточней нашего. Это раз. А два – будет особый золотой знак за Сталинград и Волгу, по которому мы получим не только почет.
– Замок в Пруссии? – спросил Штумпфе и высморкался.
– Ты опять не о том, Ледеке, – сказал Фогель, – я говорю о чувстве, а ты как мужик, который возит свеклу на рынок. Такие вещи не надо смешивать.
И тут внезапно друзья поссорились. Штумпфе сказал:
– Пошел ты к чертям со своими чувствами! Ты буржуйская морда, а я боюсь после войны остаться голодным.
Фогель, пораженный выражением ненависти на лице товарища, растерянно сказал:
– Ну, милый мой, моего отца так прижали промышленные комиссары государства, он выглядит обычным трясущимся служащим, а не капиталистом.
– Какого черта прижали, надо прижать по-настоящему, надо после войны всем вам кишки выпустить, паразиты! Фюрер вам еще покажет! Он им скажет словцо, Ледеке!
Но Ледеке, всегда соглашавшийся с одним из спорящих, на этот раз, шепелявя от злого волнения, проговорил:
– Если уж сказать под конец войны правду, то все эти разговоры об единстве народа – дурацкая болтовня. Буржуи будут жрать и наживаться на победе, нацисты и эсэсовцы, вроде Штумпфе и его брата, тоже нажрутся хорошенько, а если уж кому выпустят кишки, так это мне, болвану рабочему, и моему отцу в деревне. Нам-то покажут единство! И ну вас к чертовой матери – вам после войны со мной не по пути.
– Товарищи, что с вами? – испуганно произнес Фогель. – Что с вами, я не узнаю вас, точно другие люди?
Штумпфе пристально посмотрел на него.
– Ну ладно, ладно, хватит, – примирительно сказал он. – И знаете, ребята, если я действительно не сделаю того, что задумал, и кончу войну дураком, то это только ради вас.
В это время вошел сменный караульный, стоявший у входа в подвал.
– Что это за стрельба была? – спросил из полумрака сонный голос. Караульный с грохотом положил автомат и, потягиваясь, ответил:
– Мне сказал вестовой обер-лейтенант, что какой-то русский отряд занял вокзал. Но это не на нашем участке.
Кто-то из солдат рассмеялся:
– Они от страха заблудились, хотели пойти на восток, а пошли на запад.
– Наверное, – сказал Ледеке, – все они нетвердо знают, где восток, а где запад.
Караульный сел на постель, стряхнул рукой мусор с одеяла и сказал раздраженно:
– Ведь я просил два раза. Ей-богу, завтра перед дежурством положу под одеяло гранату. Поразительно, что у людей нет уважения к чужим вещам. Ведь это одеяло я собираюсь отвезти домой, а кто-то шагал по нему в сапогах.
Он стащил с ног сапоги и, став добродушным от мысли о предстоящем сне, проговорил:
– Там подняли пальбу, а у Ленарда веселье: патефон, шум, гости, притащили плачущих девиц, и, представляешь, наш Бах тоже там, видимо, решил потерять невинность под конец войны. Там палят, а у нас музыка.
Голос из темноты подвала сказал:
– Пахнет капитуляцией. Ах, сердце замирает, когда думаю, что нас скоро повезут домой.
36
Солдат Карл Шмидт стоял на часах у выходившей во внутренний двор стены здания, в котором разместился штаб стрелкового батальона. Худое, тронутое морщинами лицо Шмидта казалось особо хмурым и недобрым при мерцающем свете пожара.
По карнизу, тревожно озираясь, шла рослая белая кошка.
Солдат оглянулся, не наблюдает ли его кто-нибудь, и сипло позвал:
– Не du, Katzchen, Katzchen…[18] – Но, видимо, сталинградская кошка не понимала по-немецки, она на мгновение остановилась, соображая, насколько опасен для нее человек, стоящий у стены, и, быстро дернув хвостом, прыгнула на загремевшую железную крышу сарая, исчезла в темноте.
Шмидт посмотрел на ручные часы – до смены караула оставалось еще полтора часа. Его не тяготило стояние в карауле у этой