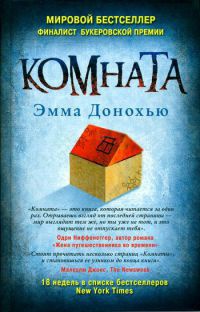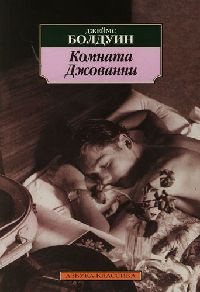Ночью мне приснился Джок. Мы были на пляже. Была поздняя осень. Облака метались по небу, как корабли в шторм. Сквозь них солнце протягивало свои бледные руки-лучи, пытаясь согреть нас, но тут же убирало обратно под новым порывом ветра. Море волновалось. Мы бежали по пляжу. Холодный ветер кусал меня за щеки, рвал волосы. Джок прыгал вокруг меня, лаял и заглядывал в лицо своими доверчивыми карими собачьими глазами. Ему хотелось играть. Я наклонилась, подобрала палку и с криком «принеси» бросила в сторону. С радостным лаем Джок понесся за палкой. Подобрав ее, он вернулся, положил палку к моим ногам и завилял хвостом в ожидании похвалы. Наклонившись, я погладила его по шерстке. «Умница, Джок! — сказала я. — Хорошая собачка!» Я подняла палку и снова швырнула. И Джок понесся так, что песок полетел из-под лап, а уши затрепетали на ветру. Положив палку мне под ноги, он получил новую порцию похвал. Так мы играли — снова и снова, час за часом. А море штормило, тучи сгущались, солнце медленно садилось на юго-западе, окрашивая небо в красно-оранжевые тона. Там были только мы: я и Джок, палка и пляж, море и небо. А еще там было время. И это было все. И это было счастье.
11
Юханнес приготовил рыбу с шафраном и сливочным соусом и с картофельным пюре. Стоило мне выйти из лифта, как я почувствовала знакомые ароматы и по ним нашла квартиру, из которой они исходили. Табличка на двери — «Юханнес Альбю» — подтвердила мою догадку.
Я постучала. Мне открыл Юханнес в переднике с деревянной лопаточкой в руке. Чмокнув меня в щеку, он сказал:
— Добро пожаловать, моя милая! Еда почти готова! Присаживайся.
Я присела за стол, накрытый на двоих: синие тарелки, хрустальные бокалы на тонких ножках, синие салфетки, аккуратно сложенные рядом с тарелками, две свечи в красивых подсвечниках и коробочка с зубочистками. Камень — розовато-серого цвета, размером со средний мобильный телефон с остатками доисторического папоротника внутри — украшал стол. Юханнес исчез в кухне. Оттуда раздавались звон кастрюль и его веселое посвистывание. Я тем временем зажгла свечи. Вошел Юханнес, неся две подставки под тарелки и графин с чем-то, похожим на белое вино, но что на поверку оказалось виноградным соком. Он с улыбкой объявил:
— Теперь все готово.
Поставив все на стол, Юханнес снова вышел и вернулся с кастрюлей. Прежде чем сесть за стол, он выключил свет.
Мы ели при свете свечей. Рыба оказалась очень вкусной, и я сделала Юханнесу комплимент по поводу его кулинарных талантов. Мы мало говорили, только смотрели друг на друга время от времени. Почему-то я стеснялась говорить с ним, наверно, и он тоже. В какой-то момент я даже отвела глаза. Чтобы хоть как-то снять неловкость, я спросила о камне:
— Где ты его нашел?
— На пляже. На южном побережье между Моссбю и Аббелькосом, если быть точным.
Я опустила вилку:
— Когда?
— Когда? Ну… дай подумать… за два года до того, как я оказался здесь. Пять лет назад. А почему ты спрашиваешь?
— Это же мой пляж! — сказала я. — Не в прямом смысле, конечно, но мы туда ездили с моей… моей собакой. Раза три в неделю. Что ты там делал? Мы могли встретиться.
Он странно посмотрел на меня:
— Да, могли.
И он рассказал мне, как нашел камень и почему решил сохранить его.
— Дело было осенью. У меня никак не получалось закончить роман — мой последний роман, по всей видимости, — и я был на грани того, чтобы все бросить. Чтобы прояснить мысли и встряхнуться, я одолжил у друзей машину и поехал на южное побережье к морю. Мне почему-то обязательно нужно было увидеть море. Я бродил вдоль берега, час за часом, от Аббекоса до Моссбю и обратно. Была поздняя осень. Темнело рано. Небо было затянуто серыми тучами. Пока продолжалась моя бесконечная прогулка, успело стемнеть. Я разглядывал камни, ракушки и сучья, вынесенные на берег волнами, и вдруг мое внимание привлек этот камень. Он лежал почти в воде, и белый папоротник светился в сумерках.
Юханнес замолчал. Камень по-прежнему был в моей руке. Протянув руку, он обвел кончиками пальцев контуры папоротника и продолжил:
— Он словно светился. Поэтому я нагнулся и поднял его. И в ту же секунду все прояснилось. Все кусочки мозаики легли на свои места. Будто передо мной расступились скалы, и я увидел окончание моей книги. Четко и ясно. Я сунул камень в карман, поехал домой и дописал роман за пару дней. С тех пор я с ним не расставался.
После еды я устроилась в кресле, а Юханнес на диване. Мы пили чай.
— Расскажи о твоей собаке, — попросил Юханнес.
На глаза тут же набежали слезы, в горле встал ком. Стало трудно говорить, Юханнес все понял и добавил:
— Только если ты хочешь, Доррит.
Но я рассказала. Рассказала о Джоке и моей любви к нему. Юханнеса не рассмешил тот факт, что я говорила о любви к собаке или любви Джока ко мне. Он слушал внимательно все, что я говорила. Я все говорила и говорила. О саде, о доме, даже о Нильсе.
Потом Юханнес рассказал мне о женщине, в которую он был влюблен, когда ему было пятьдесят лет — ровно столько, сколько мне сейчас. Он был очень счастлив с ней. Они даже жили вместе. Но, забеременев, подруга его бросила.
Когда она сказала, что беременна, я так обрадовался. Я страшно гордился тем, что мне предстоит стать отцом. Но как-то, вернувшись с пробежки, я обнаружил, что ее туфли и куртка исчезли, гардероб опустел, с полочки в ванной пропали все туалетные принадлежности. Не было ни компьютера, ни фотографий, ни ее любимых книг. Все исчезло. Мое сердце превратилось в кусок льда. Я больше не мог любить. Не мог заниматься любовью. Не мог даже подумать о близости с другим человеком. А время шло. Мне стукнуло шестьдесят — и вот я здесь. На стеклянной горе. Точнее, в стеклянной горе.
— И что ты сейчас чувствуешь? — спросила я.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Юханнес, хотя по его лицу прочитала, что он все понял.
— Сейчас ты смог бы?
— Смог что? — спросил он с улыбкой, словно поддразнивая меня.
Я смутилась.
— Ну… ты знаешь… — пробормотала я.
У меня горели щеки. Наверно, я покраснела от смущения.
Мы оба молчали. Потом он сказал:
— Доррит, иди сюда.
Он сказал это мягко, без тени приказа в голосе, но твердо, голосом человека, знающего, чего он хочет, и у меня внутри все сладко заныло. Это было как когда-то с Нильсом: он тоже иногда говорил очень уверенно, по-мужски. И эта интонация, интонация мужчины, который знает, чего он хочет, всегда оказывала на меня такой эффект.
Меня всегда возбуждали уверенные в себе мужчины, способные демонстрировать свою власть не криками и побоями, но одним ровным звучанием низкого хриплого голоса. Меня всегда возбуждали мужчины, умевшие управлять ситуацией, мужчины, обладавшие надо мной властью. И вот я сидела в кресле Юханнеса, и сердце билось и пульсировало в груди. Меня бросило в жар, щеки горели, глаза слезились. Меня словно лихорадило. Но я ничего не ответила, только сидела в кресле, пытаясь понять, что со мной происходит.