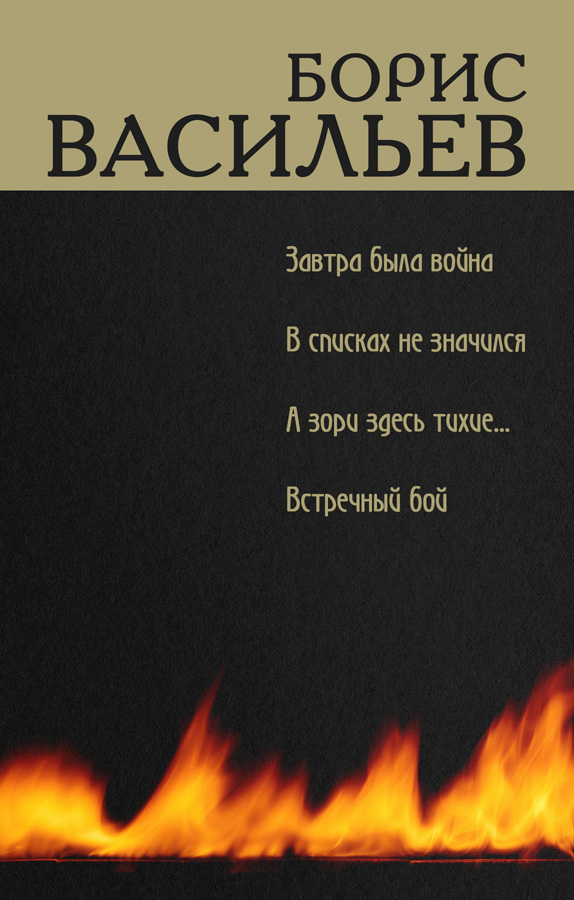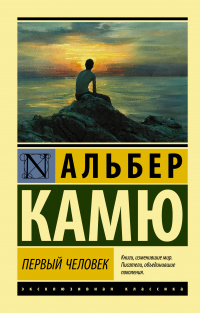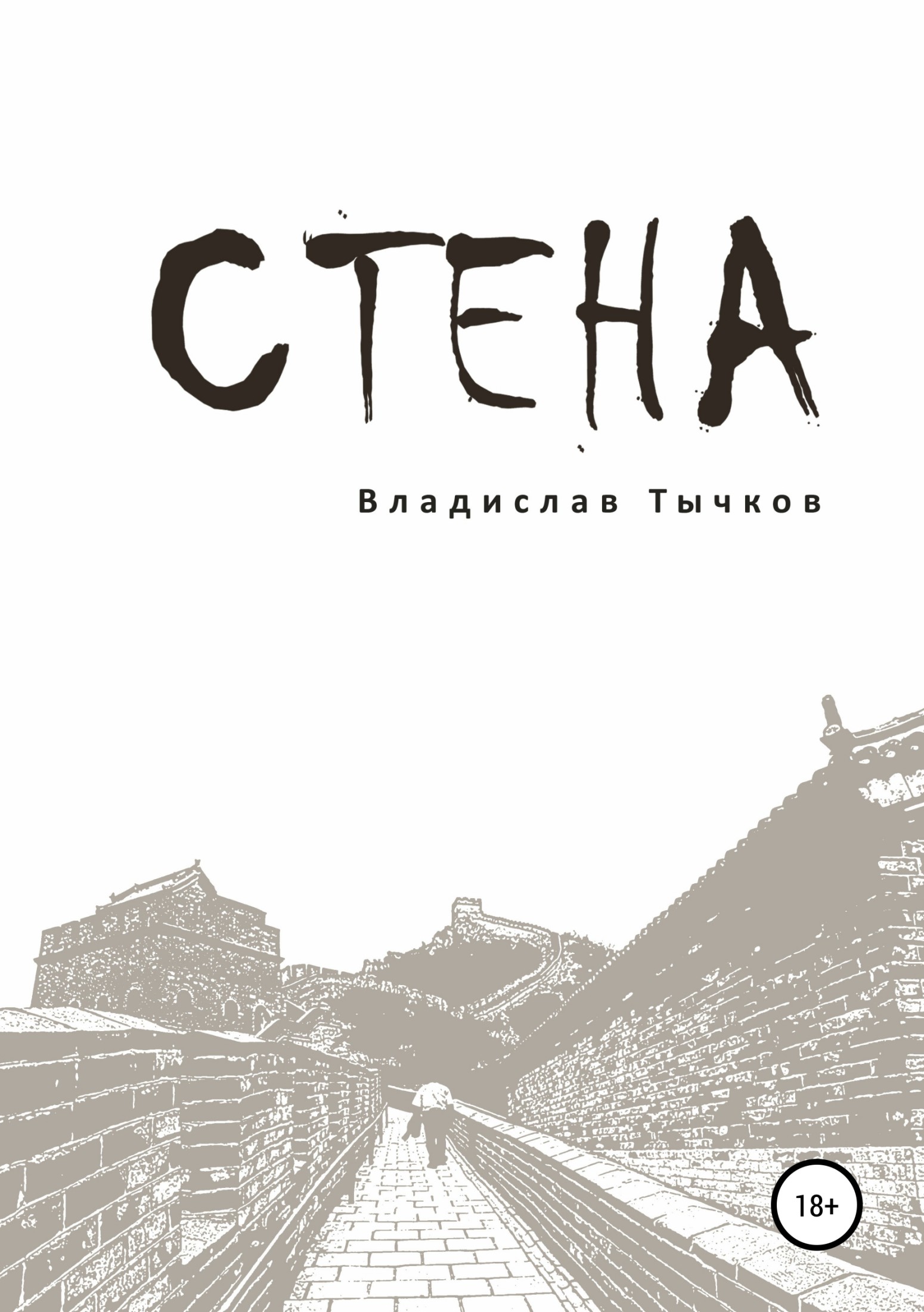отросшие до пояса, треплет ветер. Воздух обволакивает мою кожу, как шелк.
Некоторые ощущения остаются с тобой навсегда. Мы вместе скользим домой в темноте, и кажется, что это будет длиться вечно.
Через два дня Фрэнк опаздывает с тренировки, и, увидев его, я открываю рот. Он совершил радикальный поступок — отрезал длинный хвост, обязательный для сикхов. Брат лениво входит в дом. У него нормальная мужская стрижка в пару дюймов длиной. На лоб падают темные кудряшки. Я думаю, что раз уж папа делает вид, что его не существует, терять уже нечего. Я впечатлена. Короткая стрижка подчеркивает красоту лица Фрэнка: прямой нос, высокие скулы и крепкий подбородок. Но лучше всего глаза, темные и теплые. Он заметен в любой толпе. Я понимаю, что мы с Фрэнком питаем одну и ту же надежду: нарушение законов, которые вбивали в нас годами, заставит папу хоть что-то сказать.
Папа холодно смотрит на него, на мгновение останавливается, но потом, не произнеся ни слова, молча идет в кухню. Фрэнк закидывает на плечо рюкзак с формой, опускает глаза и тихо уходит к себе.
Две только что зажившие мозоли у меня на ладонях рвутся, оставляя на перекладине кровавые полосы. Далеко внизу стоит Анатолий в полиэстеровом спортивном костюме с зеленой полосой. Он приглядывает за мной на случай, если что-то пойдет не так. Папа решил платить ему за полный рабочий день, чтобы Анатолий с семьей переехал в Гейдельберг. Теперь у меня не осталось ни одного шанса бросить гимнастику. Спорт, который я когда-то любила, превратился в ежедневную пытку, она длится четыре с половиной часа и от нее нельзя избавиться.
Я стараюсь выпрямиться в стойке на руках, готовясь к полному обороту вокруг перекладины. Боль оказывается такой резкой и сильной, что мой крик эхом отдается от бетонных стен пустого зала. Я разжимаю руки, и пол несется на меня. Если я упаду с такой высоты головой вниз, ничего хорошего не выйдет.
Но внезапно я чувствую руки на своих плечах: Анатолий кидается под меня. Я с громким шлепком приземляюсь прямо на него, угодив локтем ему в живот. Кажется, он только что спас меня от перелома позвоночника. В благодарность я ору ему прямо в ухо. Осторожно сдвинув меня в сторону, он бежит к холодильнику в углу, где хранятся пакеты со льдом. Сквозь стекло я вижу мамино лицо и сворачиваюсь в клубок.
— Перелом, — говорит Анатолий, осторожно накладывая на стремительно распухающую ступню гелевый пакет.
Я всхлипываю, чего никогда не позволяю себе на публике. Мама уже стоит рядом, вся натянутая, как струна.
— Немедленно к врачу. — Анатолий ощупывает мое плечо.
Врач и морфин кажутся мне великолепной идеей.
— Ты почему отвлеклась? — кричит на меня мама по-английски.
Голос ее необычно тверд. Я так удивлена, что немедленно перестаю плакать.
— Ты вообще понимаешь, сколько от тебя проблем? — Голос ее похож на удар кнута.
Я забываю о травме. Все гораздо хуже. И это моя мама, которая всегда меня успокаивает и сидит со мной всю ночь, когда я болею?
Анатолий поднимает руки:
— Bitte, bitte![13] — Кажется, трансформация моей тихой милой матери удивила его не меньше, чем меня. — Это один из самых опасных видов спорта в мире. Она не сделала ни одной ошибки.
Мама трясет головой, как будто не может больше об этом говорить. На меня наставляли стволы, но сейчас гораздо страшнее.
— Все хорошо, — улыбается Анатолий, опускаясь на колени рядом со мной.
Я лежу и смотрю на измазанные мелом стойки перекладины.
— Надевай. — Мама бросает на мат мои кроссовки.
— Почему ты злишься? — робко спрашиваю я.
— Надевай и пошли. Если тебе нужно к врачу, сама дойдешь.
Мы добираемся до клиники за пятнадцать мучительных минут. Полная женщина за стойкой с подозрением смотрит на меня.
— Ты с ней не поговоришь? — тихонько спрашиваю я у мамы.
— Это ты решила покалечиться.
Анатолий был прав: перелом. Через несколько часов я лежу дома в лангете и бинтах и пытаюсь осознать происходящее. Слышу стук входной двери — папа вернулся. Потом до меня доносятся голоса, и моя дверь распахивается.
— Бхаджан, детка, ты в порядке? — Он садится на край моей кровати, и я утыкаюсь в его теплую шею, пряча лицо в колючей бороде. — Не бойся, принцесса. — Папа обнимает меня, и я чувствую себя так, будто вернулась домой с мороза.
— Почему мама на меня злится?
— А она злится? — Он отстраняется, чтобы посмотреть мне в лицо.
— Она заставила меня самой идти к врачу.
— Что? Я с ней поговорю, бедняжка моя. Не думай об этом больше.
Когда я просыпаюсь посреди ночи, нога вся горит. Я бреду в кухню в темноте, держась за стену. Роясь в холодильнике в поиске пакетов со льдом, которые у нас всегда под рукой, я слышу грохот, доносящийся из соседней квартиры-студии, где спят мои родители. Как можно тише я подхожу к двери и прижимаюсь ухом к прохладному белому дереву. До меня долетает громкий папин голос, очень злой, но я могу разобрать только отдельные слова.
— Какой… смысл… — Опять раздается грохот. Я уверена, что он кидает в стену книгу или что-то твердое. — Ты там, чтобы предотвратить… сломанный.
Значит, дело во мне. Я получила травму, а мама почему-то это не предотвратила. Он платит Анатолию, чтобы я не пострадала, и верит, что этого достаточно, что безопасность можно купить и распланировать. Для моего отца несчастный случай — ошибка, в которой надо кого-то обвинить. Не его самого, конечно.
В стену летит что-то еще, и я виновато вздрагиваю. Кажется, я понимаю, почему мама так расстроилась: она знала, что ее ждет наказание. Мама не только чувствовала мою боль, но и должна была нести за нее ответственность. И теперь я всем телом ощущаю ее печаль.
Глава 11
Аэропорт Франкфурта, 9 лет
Наша Подруга оказывается удивительно маленькой. Я представляла ее огромной, грозной и роскошной. Но в аэропорту Франкфурта от толпы отделяется и идет к нам, прихрамывая и опираясь на резную деревянную трость, миниатюрная женщина в черном. Я смотрю на нее, не скрывая любопытства. Наша Подруга — наша подельница, но это вовсе не значит, что мы ей безгранично доверяем. Мы бы никогда не стали встречаться с ней в аэропорту города, где мы действительно живем.
Взрослые многозначительно приподнимают брови, когда она подходит ближе. Господи, ну конечно, я не стану спрашивать, что у нее с ногой!
Тревога потихоньку уходит с лица матери, и я понимаю: она боялась, что