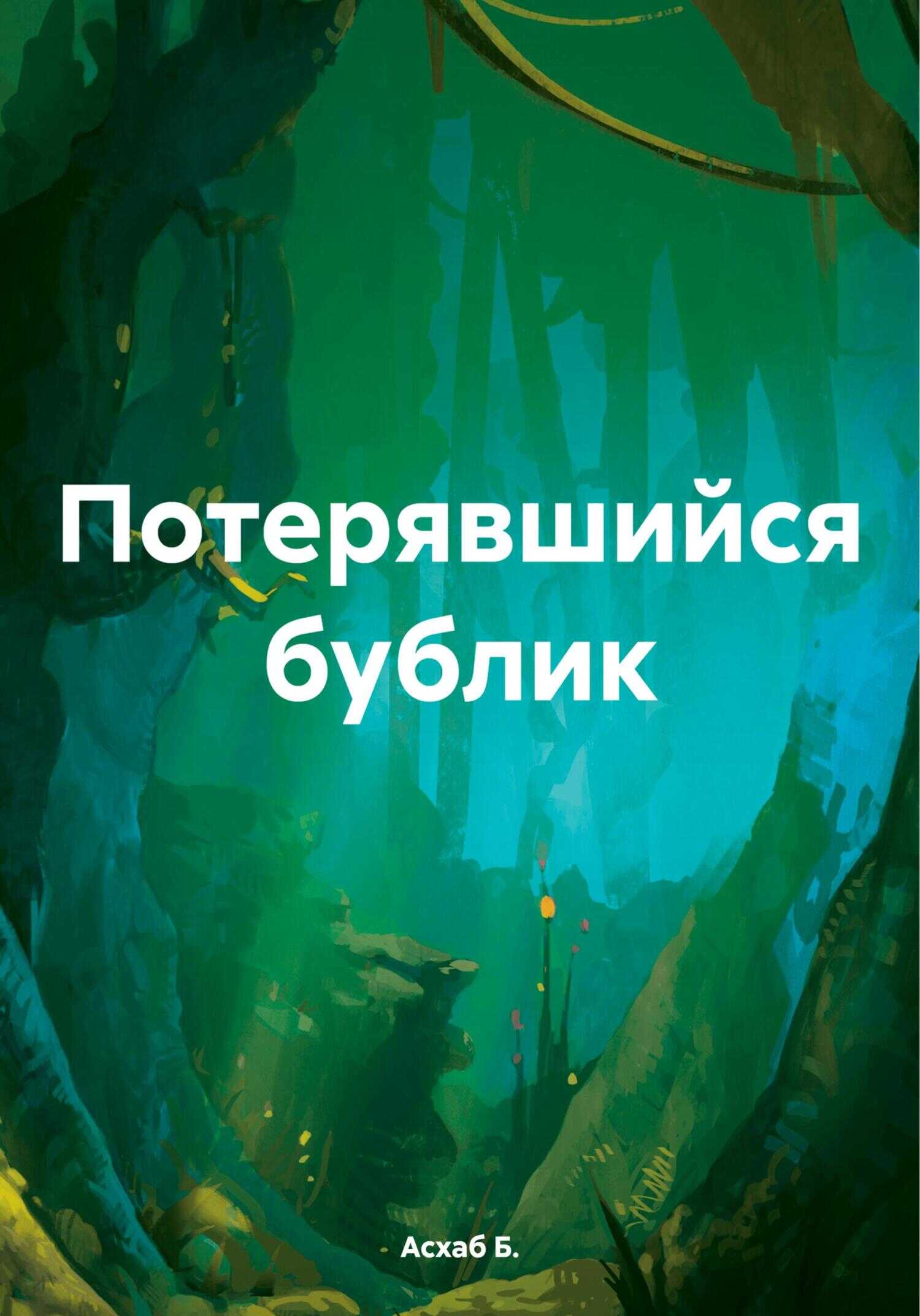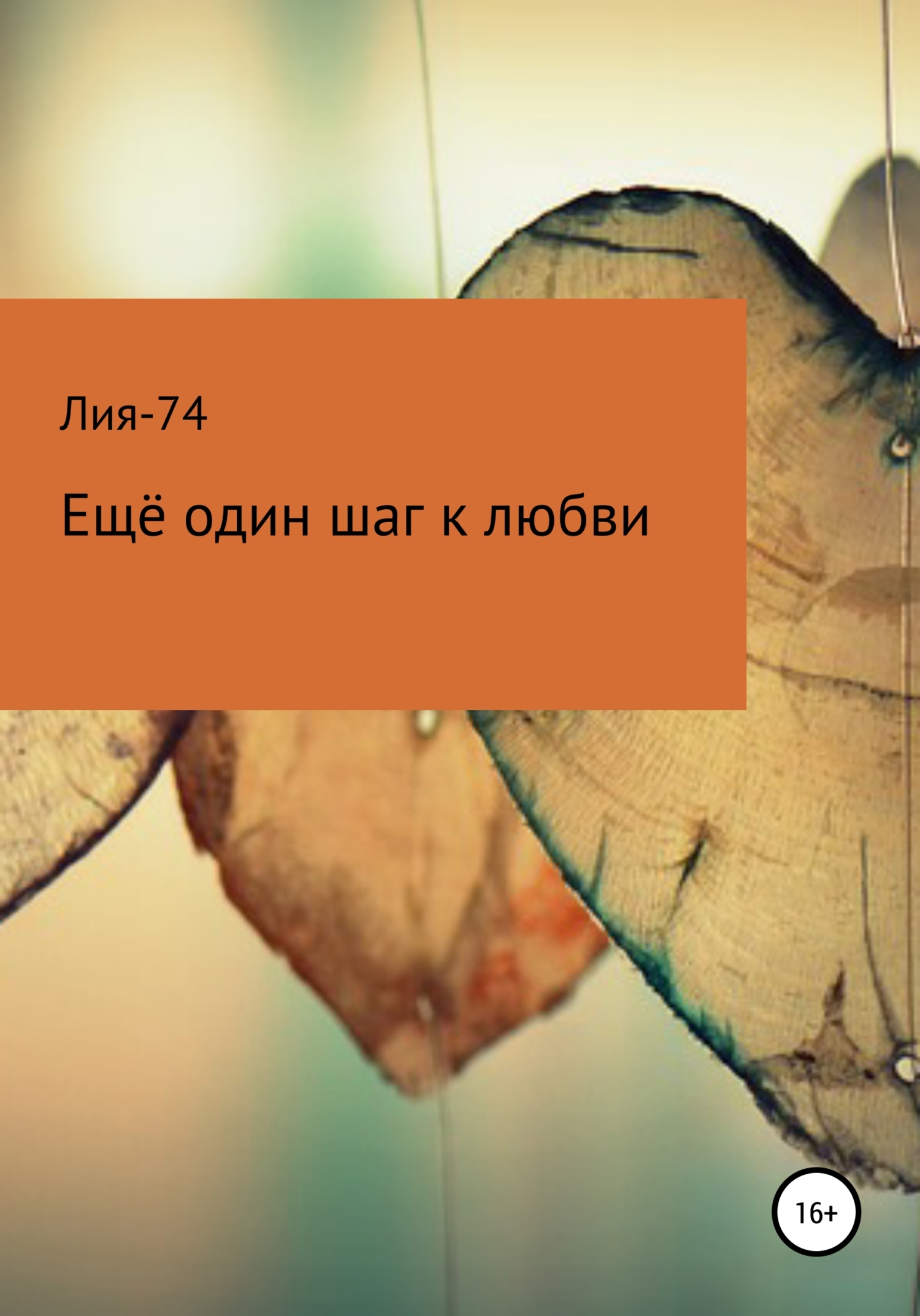течение всей жизни остается более стойким. Я уже пыталась представить себя кормящей матерью, уже переживала за моего еще не родившегося ребенка – боялась, что он вдруг заболеет чем-то тяжелым, что его вдруг заберут в больницу на операцию… Опасалась, что непонятные Мишины боли передадутся сыну (я почему-то убеждена была, что родится именно сын) по наследству… Короче говоря, я постепенно формировалась в настоящую “еврейскую маму”… Приплюсуйте к этому бессонные ночи на почве ревности, и мое состояние не покажется вам легким и безмятежным…
Я стала обращать внимание на то, что Миша что-то чаще, чем обычно, стал отлучаться в шахматный клуб. Причем в самое разное, порой неклубное время… Я, конечно же, не оставила это без внимания. Миша посмотрел на меня с бес- смысленной улыбкой, пытаясь найти более или менее ло- гичный ответ. Но врун из него был никудышный – он поцеловал меня и наивно сказал: “Понимаешь, Саська, мне надо сделать кучу телефонных звонков в разные места, а мой голос может тебя раздражать. Не могу же я мою Саську, которая вынашивает нашего ребенка, подвергать зверским пыткам…” Я сделала вид, что его ответ меня полностью удовлетворил. Он мне поверил – я-то была все-таки неплохой артисткой. И он с таким облегчением и с такой радостью удалялся в шахматный клуб, что было абсолютно ясно: “куча телефонных звонков” будет сделана не в разные места, а в одно-единственное место…
Я вспоминала его телефонные бомбардировки мне и плакала. Не зря плакала… Не хочу называть имя тогдашней Мишиной избранницы – во-первых, сегодня это уже не имеет значения, а во-вторых, найдите мне женщину, кото- рая без необходимости лишний раз произнесет имя своей соперницы… Даже если событие и было очень давним…
У Миши, действительно, и до меня, и при мне было мно- го поклонниц, среди которых были очень талантливые и интеллигентные женщины… Но он всегда говорил: “Моя Саська и играет лучше Беллочки, и танцует лучше Мирочки Кольцовой со всей “Березкой”…” Заманивали же его женщины совсем другого плана… Та самая Н. была совершенно наглой и невоспитанной особой. Когда мы бывали в Москве, она беспардонно звонила в номер, вызывала куда-то Мишу, и он уходил к ней… В ее компанию входили какие-то парикмахеры, фарцовщики, полуспившиеся артисты и артистки, и весь этот хоровод гулял на Мишины деньги, которые аккуратно высылал Роберт по первому Мишиному настоянию…
Яша, помню, сказал: “Кончится тем, что Салли в один прекрасный день соберется и уйдет”. Даже Ида, для которой все, что ни делал Миша, было правильным, начала беспокоиться, как бы Н. не втянула Мишу в какую-нибудь неприятную историю… Когда разговоры на эту тему возникали в моем присутствии, Ида и Роберт переходили на немецкий язык и становились похожими на заговорщиков.
Впрочем, очень скоро их заговор перестал быть секретом: воспользовавшись связями Роберта, Ида обратилась в соответствующие органы, за Н. было организовано наблю- дение, и в конце концов ее арестовали и вскоре выслали из Москвы… Об этом я узнала много позже от самой Иды, не- задолго до ее смерти… Тогда я подумала: “А ведь если бы Ида захотела, то и от меня можно было бы избавиться таким же способом”. Ради Миши, в критические моменты, Ида не остановилась бы ни перед чем. Но я была любимым достоянием ее сына и оставалась неприкосновенной в течение всей жизни, тем более что после Мишиного романа с артисткой Л. (о чем ниже) Ида по-настоящему стала относиться ко мне как к дочери.
12 октября 1960 года родился Гера. Я его недели две пере- носила, и Миша страшно нервничал. Он как раз в те дни должен был ехать на Олимпиаду в Лейпциг. За несколько дней до отъезда всех членов команды собрали в Москве, и именно в это время меня забрали в больницу, где я и родила. Все уже улетели в Лейпциг, а Мише разрешили слетать в Ригу, чтобы он мог взглянуть на своего сына (мне позволили показать ему Геру из окна роддома). Миша был страшно возбужден, шутил, но, по-моему, так до конца и не осознал, что стал отцом… В Лейпциг Миша улетел один (!), самостоятельно. Трудно представить себе такой факт в те времена… Но Мишу любили не только почитатели шахмат. Мишу любили и власти. По крайней мере – до поры, до времени.
Гера родился довольно крупным – свыше 4-х килограм- мов, 56 сантиметров… Абсолютно рыжий. Копия – я… Когда Миша возвратился из Лейпцига, мы были уже дома. Миша посмотрел на рыжий комочек с красной попкой и пришел в неописуемый восторг. Было такое ощущение, что он никогда раньше не видел маленьких детей. Впрочем, так, наверное, и было на самом деле… Он с восхищением рассматривал сына со всех сторон и делал для себя все новые и новые открытия. “Смотри! – восторгался Миша. – У него настоящий нос! А губы! Ты посмотри на его губы!.. Он меня сразу узнал!.. Ты посмотри, какой он мужчина!..”
При всей радости Миша поначалу, по-моему, не воспри- нимал сына как реальность. Скорее, как забавную игрушку. Вскоре одно за другим возникли два ласкательных прозвища: Булочка и Гусь, Гусевич, Гусеныш… Булочка по мере роста отпала, а Гусь, Гусевич, Гусеныш прошел через всю Мишину жизнь״.
Пожалуй, по-настоящему Миша понял, что он отец, в тот день, кода Гера впервые пошел… Он долго пытался сохранять равновесие, когда я его поставила на пол, потом его понесло в сторону Миши, он сделал несколько быстрых шажков и плюхнулся прямо в отцовы колени, пролепетав при этом “па-па”… Миша стал кричать, что мы имеем феномен абсолютно гениального мальчика, что природа и вправду отдыхает на родителях, особенно на маме… Гера, действительно, с самого раннего детства производил незаурядное впечатление и часто был способен на фривольные поступки. Ему было меньше трех лет, когда я вынуждена была отдать его в детский сад. Гере там не понравилось. Он сказал, что там “очень много шкафчиков, и ни в одном шкафчике нет книжек”, и что больше он в детский сад не пойдет. Я стала ему говорить, что детский сад – это работа. Папочка работает шахматистом, мамочка работает в театре, Мурочка работает бабушкой, а Герочка должен работать в детском садике… Мои убеждения не произвели никакого впечатления, и когда наутро я разбудила его, он спросил: “Опять в детский сад?” “Да, сынок, – сказала я. –